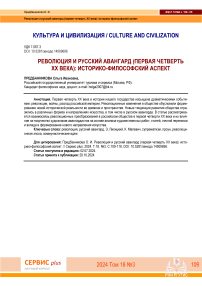Революция и русский авангард (первая четверть XX века): историко-философский аспект
Автор: Предбанникова О.И.
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 3 т.18, 2024 года.
Бесплатный доступ
Первая четверть XX века в истории нашего государства насыщена драматическими событиями: революции, войны, распад российской империи. Революционные изменения в обществе обусловили формирование новой исторической реальности во времени и пространстве. Новые тенденции развития общества отразились в различных формах и направлениях искусства, в том числе в русском авангарде. В статье рассматривается взаимосвязь революционных преобразований в российском обществе в первой четверти ХХ века и их влияние на творчество художников-авангардистов на основе анализа художественных работ, статей, личной переписки и вклада в формирование нового направления искусства.
Революция, русский авангард, э. лисицкий, к. малевич, супрематизм, проун, революционная эпоха, коммунистические идеи
Короткий адрес: https://sciup.org/140308346
IDR: 140308346 | УДК: 7.067.3 | DOI: 10.5281/zenodo.14509696
Текст научной статьи Революция и русский авангард (первая четверть XX века): историко-философский аспект
Submitted: 2024/07/02.
Accepted: 2024/10/29.

2024 Vol. 18 Iss. 3
SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
Первая четверть XX века в истории нашего государства насыщена драматическими событиями: революции и войны, падение империи как формы государственности, смена экономического и политического курса, формирование новой государственности, отказ от традиционных религиозных ценностей, создание новой исторической реальности. Эти события вызвали необратимые процессы во всех сферах жизнедеятельности российского общества. Изменения характеризовались не только деструктивными («крушение старого мира»), но и созидательными (рождение новаций в экономике, социальной сфере, культуре, искусстве) явлениями. Революционные настроения в обществе и установление советской власти вовлекли в круговорот событий все общество, включая представителей творческой интеллигенции. Революционное преображение мира воспринималось ими как созидательный процесс свободного творения нового социокультурного пространства. На призывы партии большевиков к сотрудничеству откликнулись многие представители художественной интеллигенции и среди них – художники-авангардисты. Об этом не без гордости говорил А. М. Родченко: «Мы, левые художники, пришли работать с большевиками первыми».
Советская власть позитивно оценивала революционный энтузиазм, поддерживала пролеткультовские организации, творческие «союзы» и ассоциации в сфере искусства, мотивировала художественную интеллигенцию на разработку инновационных проектов по продвижению дела революции, обустройство и строительство новой жизни формами нового пролетарского искусства. Творческая молодежь ощутила свободу для реализации своего потенциала в строительстве нового мира средствами нового искусства. В стране началась активная деятельность по созданию пролетарской культуры, формированию системы художественного образования, открытию выставок, сбору музейных коллекций, поиску новых художественных форм, адекватных переживаемой эпохе.
Наиболее радикальными, яркими, мотивированными, преодолевающими идейно-эстетические противоречия, были представители Левого фронта искусств. Среди их числа много художников-авангардистов, для которых были понятны и близки революционные идеи и лозунги. В сложившейся ситуации искусство авангарда, язык авангарда органично вписывались в решение задач вербальной и невербальной пропаганды. Уникальность исторической ситуации состояла в том, что на данном этапе интересы молодой советской власти и художников-авангардистов по продвижению идей и смыслов революции совпали.
Первое. Это проявилось в борьбе с традициями прошлого, как основы старого мира, разрушении преемственности в формировании российской государственности. Ибо только «в разрушенном до основания» мире можно построить новый мир. «…За несколько дней разрушены почти до основания недемократические учреждения в армии, в деревне, на фабрике. А иного пути к социализму, кроме как через такое разрушение, нет и быть не может» [6, С.191]. И далее «Мы всегда знали, говорили, повторяем, что социализма нельзя «ввести», что он вырастает из самой острой, до бешенства, до отчаяния острой классовой борьбы и гражданской войны, – …что переходному периоду от буржуазного к социалистическому обществу соответствует особое государство (т.е. особая система организованного насилия над известным классом), именно: диктатура пролетариата.» [6, С.192]. Другими словами, для большевиков – это реализация идеи диктатуры пролетариата, государства переходного периода, основной задачей которого должно стать строительство справедливого будущего для рабочих и крестьян. И эта идея нашла отражение в Конституции РСФСР 1918г., где данная форма государственности с этого момента была закреплена конституционно (Раздел второй, Глава пятая).
Революционная стихия захватила в свой водоворот художников–авангардистов, принявших революцию. Они активно включились в революционные преобразования. Революция была понята ими как творческое преобразование мира, в котором художники, используя революционный потенциал, смогут произвести революцию форм в искусстве. Она рассматривалась как возможность создания «нового порядка» в творческом пространстве: без засилия старых академических традиций и узкопрофессиональных правил. Открылось «окно» для свободного творчества, формирования
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 111
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«нового искусства», не связанного с достижениями предшествующих поколений. Это вдохновляло на творческие эксперименты, поиск новых форм (бестелесных, беспредметных и др.), разработку другой философии творчества, что позволяло сформировать свою мировоззренческую позицию в революционной борьбе за создание «нового искусства», соответствующего духу исторического времени. К.С. Малевич писал: «Если новаторы экономических харчевых благ подняли красное знамя, предвещающее катастрофу старой системы жизни, мы подняли красный семафор, указывающий катастрофу старой культуре вообще и искусству». [10, С.230]
Второе. Романтика революционных событий вдохновляла на реализацию высокой цели создания нового идеального мира – бесклассового государства, коммунистического общества. В послереволюционной России актуальность дискуссий о роли и форме государства не снижалась. В работе «Государство и революция» В.И. Ленин рассматривает тему перспективы существования и трансформации государства, акцентируя внимание на экономических, политических основах отмирания государства. На основе теоретического анализа, он показал, что процесс отмирания государства будет длительным, постепенным, по мере утверждения социализма и создания условий для перехода общества к высшей стадии – коммунизму. Он обосновал главный принцип его существования «от каждого по способностям, каждому по потребностям» [5, С.99]. Это существенно отличало его от социализма, где действовал принцип распределения по труду. Безусловно, создание общества на иных принципах вдохновляло различные политические силы, общественные движения, творческие объединения. Художники-авангардисты свою задачу видели в радикальном переустройстве послереволюционной жизни на основе коммунистических идей. В результате появились градостроительные проекты «Город коммуны» (Э. Лисицкий), «Надводный город», «Город на опорах» (Л. Хиде-кель), «Летающий город» (Г. Крутиков), «Динамический город» (Г. Клуцис) и др.
Как правило, в период масштабных преобразований общества всплывает утопическая идея построения справедливого государства. Формы такого государства могут быть разнообразными. Наиболее популярная форма – коммуна, что ассоциируется с некой идеальной моделью организации коллективного существования во времени и пространстве. «Коммуна – «открытая наконец» пролетарская форма, при которой может произойти экономическое освобождение труда» [5, С.56]. Понятие «Коммуна» исторически ассоциировалось с революционной романтикой и органично сочеталось с моделью разумной организации социального пространства – «Город». Идея города будущего, города Коммуны для молодого социалистического государства была чрезвычайно востребована. Концептуально она достаточно точно выражена тезисом К. Малевича: «Город, храм, дворец являются живой новой формой мирового дела; искусство техники – истинный остов мирового преобразования и образования» [12, С.32]. Проект Города коммуны Эля Лисицкого сочетает и супрематическую мысль Малевича, и конструктивизм самого автора. Суть проекта сконцентрирована в идее горизонтального небоскреба, который может метафорично ассоциироваться с городом- государством. Город коммуны – это город будущего, имеющего прочный фундамент и парящий над землей, уходящий «в отрыв от земного шара». Это новая система социальной коммуникации, основанная на стремлении человека к коллективным формам существования. И, как следствие, это новый подход к организации социального пространства. Так, в масштабах города – это создание функционального общественного пространства с рациональным использованием городской территории. В масштабах отдельно взятого дома-коммуны – разумное, эргономичное обустройство зоны социального взаимодействия (гостиная, кухня, столовая, прачечная и пр.) с учетом индивидуальной зоны комфорта. По мнению автора проекта, такой технологичный, конструктивистский проект «динамичной архитектуры» создает условия для развития коллективной активности, всеобщего творчества на всех уровнях социального взаимодействия, что соответствует революционным преобразованиям в обществе. А в перспективе триумфального шествия мировой революции данный инновационный проект вполне мог стать «живой новой формой мирового дела», «мирового преобразования».
2024 Vol. 18 Iss. 3
Третье. Осуществление мечты о единстве мира. Большевики, уверенные в популярности идеи социалистической революции и установления справедливого мира для всего человечества, мечтали о мировой революции вселенского масштаба. Эта идея нашла отражение в важнейших правительственных документах того времени, в том числе в Конституции РСФСР 1918 г., где одной из основных задач Российской Советской Республики была «установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах». [1, С.221]. Итак, для большевиков это была идея мировой революции, которая так близка художникам-авангардистам. Она воспринималась как возможность организации пространства для творчества на основе абсолютной свободы в рамках художественно-философской супрематической системы. Супрематические идеи предметно-плоскостного восприятия мира нашли свое отражение в мире вещей: в создании супрематического стиля оформления праздников, театральных спектаклей, карнавальных действий, демонстраций, витрин, площадей городов. Дальнейшее развитие супрематической идеологии обусловило возникновение новых идей, связанных с формированием многогранного двухмерного, трехмерного пространства. А новое пространство открывало фантастические возможности создания новой модели мира – «единого мирового города жизни людей земного шара» (Э. Лисицкий) [9, С.281].
Художники-авангардисты, поддержав советскую власть, активно включились в общее дело строительства социалистического общества: от обустройства новой жизни средствами искусства до формирования новой философии бытия. Для реализации амбициозных планов нужны были новые творческие силы, воспитанные в парадигме «нового искусства», но ориентированные на производственную деятельность. В Москве уже в 1918 г. на базе существовавших художественных училищ были организованы Государственные свободные художественные мастерские. Позже, в 1920 году на базе их объединения появились Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС, далее – ВХУТЕИН). В первые годы советской вла- сти создаваемые художественные учебные заведения находились под большим влиянием деятелей «левого» искусства. Именно при их непосредственном участии разрабатывались новые подходы к образовательному процессу (свободный выбор обучающимися курсов, направлений художественно-производственной подготовки, приглашение ярких художников на преподавательскую работу) и учебным программам практической направленности, которые внедрялись в учебный процесс. Создавались практические отделения (архитектурное, дерево и металлообработка и др.), экспериментальные лаборатории, «свободные мастерские» и пр.
Художественные учебные заведения создавались не только в Москве, но и в других городах. Так, по инициативе М. Шагала в его родном Витебске было открыто Витебское народное художественное училище (январь 1919 г.). Марк Шагал, обратившись к коллегам-художникам с приглашением принять участие в организации процесса обучения, смог собрать новаторский коллектив художников, в котором наиболее заметными фигурами были М. Шагал (организатор), М. Добужинский, Э. Лисицкий, К. Малевич и др. Каждый художник-мастер возглавлял определенное направление. Обучение в училище имело прикладной характер, учебный процесс строился по принципу мастерских. Такая форма образования предполагала комплексную подготовку учебного процесса: от разработки программы и методики преподавания до обеспечения технических средств обучения. Так, например, Эль Лисицкий, художник-преподаватель, возглавивший комплексную мастерскую трех направлений (графики, печати и архитектуры), самостоятельно разработал авторские программы и методику обучения по предметам архитектура, полиграфическое дело, проекционное черчение; решил вопрос по оснащению печатной мастерской полиграфическим оборудованием. Учебный процесс в училище, основанный на творческой работе мастера и его учеников, создавал условия для развития талантливых, инициативных, ищущих себя, молодых людей. С приходом в коллектив Казимира Малевича, жизнь в школе стала еще более динамичной, что было обусловлено внедрением
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 113
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ новой философии в творчестве – философии супрематизма. Это было новое понимание и видение мира в художественном пространстве, основанное на отрицании сложившихся академических традиций в искусстве. Супрематизм давал возможность концептуально выразить идею художника в самых простых бестелесных геометрических формах (квадрат, треугольник, круг), составляющих основу материального, вещного мира. В супрематических творениях из-за отсутствия четко обозначенных рамок, перспективы, пространственных координат, причинно-следственных связей возникает «маленькая вселенная», наполненная смыслами, органично интегрированная в контекст человеческого бытия.
Супрематизм как философия, метод, мировоззренческая позиция стал определяющим принципом системы обучения. Это привело преподавателей-художников к необходимости выбора и определения своего места в творческом и образовательном процессе. Марк Шагал не принял супрематизм и оставил училище. Малевич и поддержавшие его художники образовали творческое объединение УНОВИС (Утвердители Нового Искусства), задачами которого были разработка и продвижение идей нового искусства. Среди членов УНОВИСа был Эль Лисицкий, талантливый художник, архитектор, который с большим интересом включился в процесс созидания нового.
По воспоминаниям художников, участников содружества, это был очень интересный период свободы творчества, поиска новых форм, революционных новаций в изобразительном искусстве. В своем письме (25.02.1922 г.) из Берлина Э. Лисицкий писал: «Дорогой друг (я думаю, что так это есть), мы прожили в Витебске очень хорошее время, очень значительное и очень многомерное время. Теперь я это особо остро вижу. Здесь нет ни пространства, ни времени. Души ходят. Приведения очень бледные, и рыже повсюду. Но все же пульс мой колотится и смотрю, он что-то делает. …. Я в обзоре русских выставок упоминаю о Вашей и говорю так приблизительно – о Малевиче, творце «супрематизма», вожде поколения не перестающему кипеть новаторе-революционере мы должны говорить особо и внимательно – и обещаю в ближайшем № статью о супрематизме… Но я прошу все-все об Уновисе, все-все, что каждый делает, рисунки, фотографии, все слать по вышеуказанному адресу для меня. И тогда, я надеюсь, буду в состоянии исполнить долг перед Вами. [11, 294 -295].
Из текста данного письма становится понятно, насколько высоко оценивается Витебский период не только совместной творческой продуктивной деятельности, но и той духовной и душевной близости, которой не достает автору письма в Берлине. Следует отметить, что работы Уновиса по формированию принципов супрематизма актуальны для творческого сообщества за рубежом. Поэтому Лисицкий просит направлять все имеющиеся материалы: рукописи, рисунки, фотографии для продвижения и пропаганды идей и принципов нового искусства за пределами России. В связи с организацией совместно с Эренбургом журнала «Вещь», открылись новые возможности для публикации работ членов Уновиса, продвижения их идей, информирования о русских выставках, формирования позитивного имиджа творцам нового художественного направления. Вместе с тем, он признает авторство Малевича, значимость разработанной им теории супрематизма для современного искусства, считает своим долгом всеми способами пропагандировать его творчество, а также базовые основы развития Уновиса.
И еще один аспект следует отметить относительно исполнения долга перед Малевичем. Вероятно, это связано с проявленной Лисицким самостоятельностью в своем творческом развитии, а также решением реализовать свое видение теории супрематизма в прикладной сфере, прежде всего в архитектуре. Одно из писем (1924 г.) К. Малевича, адресованное Э. Лисицкому, подтверждает данное предположение. Автор письма открыто высказывает претензии Э. Лисицкому. В частности, он пишет: «А вы тоже не исполнили договора; Вы, конструктор, испугались Супрематизма, а помните 19 <й> год, когда мы условились работать над Супрематизмом и хотели книгу писать; а что теперь – конструктивист-монтажник; куда Вас занесло, хотели освободить свою личность, свое Я, от того, что сделал я, боялись того, чтобы я не расписался или мне бы не приписали всю вашу работу, а попали к Гану, Родченко, конструктором стали, даже
2024 Vol. 18 Iss. 3
не проунистом. Где же Уну? Уновис фотографии? Журналы? В которых будет помещ <ена> Уновис-ская работа? А как бы многое значило это, если бы Вы и Уну поддержали одну линию по организации Нов <ого> Искус<ства>. Как важно это, и нет ничего. Разве Вы жур<нал> «Вещь» начали как член Уно-виса? Нет. А Вы знаете, кем Вы с кем были? Вы уехали за рубеж – хорошо, а где же связь. Нет ее. Ну ладно. Не сердитесь, ибо будете не правы» [11, 297].
В данном фрагменте письма К. Малевич высказывает как личную обиду относительно не выполнения договоренности во время совместной работы, так и претензию по поводу недостаточно активной деятельности Э. Лисицкого как члена Уновиса по продвижению идей нового искусства. По настроению письма чувствуется большое разочарование и сожаление о невозможности реализации данного проекта в полном объеме. Но поскольку письмо датируется 1924 годом, то эта горечь обусловлена еще и кризисом отношений между советской властью и «левыми» художниками, художниками-авангардистами. И в таком состоянии Малевичу все же сложно было объективно оценивать ситуацию, факторы, влияющие на ход событий, роль отдельных личностей на развитие процессов.
В последующей переписке Э. Лисицкий проясняет свою позицию и не соглашается с подобной оценкой. В ответном письме он пишет: «Итак, упреки, которые Вы мне бросаете не соответствуют действительному положению. Видите ли, Каз<имир> Сев<еринович>, Вы и я тела с разным положением центра тяжести. Скажем, Вы <в оригинале письма рисунок квадрата> и Ваш центр в <точке> пересечения диагоналей. Ну, а я <рисунок треугольника> с центром в точке пересечения высот <рисунки>. Поэтому наше равновесие в различных положениях различно. Меня, например, не занимает положение пророка какого-нибудь ИЗМа (например, Проунизма). Но в Вас я пророчество очень ценю, и Ваши подражатели боятся Вашей личности. Я рассматриваю наши отношения в плане роста современных научных методов, где один открыл, что причина болезней микробы, а следующий открыл противооспенную сыворотку, где один вяжет свой узел в точке, где другой остановился. Многое в Ваших мыслях возбуждает мое противоречие, и все же никто, кроме меня не заботился о пропаганде Вас» [11, 300].
Переписка свидетельствует о непростых отношениях двух великих художников в период выбора пути на новом этапе творческого развития, определения сферы реализации профессиональных интересов. Однако, при разных взглядах на место и роль художника в исторических реалиях, взаимное уважение другу к другу оставалось основой их отношений.
Вместе с тем, для большинства художников, членов УНОВИСа приобретенный опыт в данном объединении стал точкой профессионального роста и обретения своего творческого пути. Для Э. Лисицкого, художника и архитектора, витебский этап был этапом философского осмысления супрематизма как метода в его практическом измерении. Именно на данном этапе творчеством двух великих художников был создан механизм трансформации идей супрематизма в новые области искусства. Это создало условия для применения супрематических идей восприятия художественной реальности на практике: от «левой живописи» через объемные системы – конструкции к созданию нового стиля в архитектуре.
Отдавая должное художественно-супрематической системе, Э. Лисицкий видит необходимость ее дальнейшего развития в новых реалиях. Поиск своего пути приводит художника к пониманию необходимости использования своего творческого потенциала в прикладной сфере, что в полной мере проявилось в архитектуре. Таким связующим звеном, переходом от «левой» живописи к архитектуре стали проуны (проект утверждения нового). «Промежуточной станцией по пути сооружения новой формы» стал проун – творящая, созидательная, целеполагающая сила искусства, реализованная в многообразии форм. Это свидетельствовало о том, что Эль Лисицкий практически отошел от «чистого» искусства. Его творческие изыскания были обращены к прикладной сфере с целью создания нового мира на «коммунистическом фундаменте».
Выступая на заседании Пленума ИНХУКа 23 сентября 1921г. с Докладом «О проунах», Эль Лисицкий, по сути, сформулировал философию понимания новой жизни, а также роль художника и его
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №3 115
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ творчества в новых исторических реалиях. «Проун изменяет саму производственную форму искусства. Он оставляет индивидуалиста-кустаря, строящего в западном кабинете на трех ножках мольберта свою картину, им одним начатую и только им одним кончаемую. Проун вводит в творческий процесс множество, захватывая каждым новым поворотом радиуса новый творческий коллектив. Личность автора тонет в произведении, и мы видим рождение нового стиля не отдельных художников, но безымянных авторов, высекающих новое здание времени» [9, С.281]. Художник открывает новую силу, противостоящую индивидууму, – коллективный художественный разум, который обладает более мощным потенциалом в конструировании нового мироздания. Созидательная, творческая, преобразующая сила коллективного художественного разума может создать «новую стальбетонную плиту коммунистического фундамента под народа всей Земли, и через Проун мы выйдем к сооружению над этим всеобщим фундаментом единого мирового города жизни людей земного шара». [9, С.281] (Доклад «О проунах» цитируется по книге: Хан-Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования). [13]
Революционные потрясения 1917 года выдвинули авангардистов на передний край новой жизни. Активность, напористость, увлеченность, новаторство представителей авангардистского направления в искусстве были использованы большевистским агитпропом. Эпоха военного коммунизма, когда большевиками устанавливался новый порядок, была еще относительно благоприятным временем для развития «левого» искусства. Авангардное искусство в его многоликости было отражением революционных изменений в обществе. Его пропагандистская наглядность принималась в обществе и поддерживалась массами. Но последующие изменения в государстве, связанные с новой экономической политикой, а затем реализацией курса построения социализма в одной отдельно взятой стране в значительной степени изменили отношение к вопросам культурного строительства.
Несмотря на сложное экономическое положение, развернувшиеся в стране дискуссии о формах, методах культурной революции, советское правительство достаточно жестко определило свое отношение к культурной политике, как наиважнейшей составляющей пролетарской идеологии. Уже на I Всероссийском съезде пролеткульта (1920 г.) была принята резолюция, написанная В.И. Лениным «О пролетарской культуре», которая во многом и определяет сущность и культурную политику. «Марксизм завоевал себе всемирно-историческое значение как идеологии революционного пролетариата тем, что было ценного в более чем двухтысячелетнем развитии человеческой мысли и культуры. Только дальнейшая работа на этой основе в том же направлении, одухотворенная практическим опытом диктатуры пролетариата, как последней борьбы его против всякой эксплуатации, может быть признана развитием действительно пролетарской культуры». [7, С.337]. Реализация решения требовала объединения усилий организаций Пролеткульта и Наркомпроса в целях осуществления единой политики в сфере культурного строительства. Понимая актуальность взвешенной, целенаправленной политики в сфере культурного строительства, задачи политической борьбы за власть уступают место мирной организационной культурной работе.
Словом, изменившиеся подходы к культурному строительству и искусству привели к потере интереса к формам и методам «левых» художников. В связи с постепенным укреплением социалистической государственности и соответствующей ей пролетарской культуры, обострилась борьба между представителями «левых» и «правых» художников, сторонников реалистичных методов в искусстве. Власть все больше стала контролировать идеологическую направленность искусства, определяя его формы и содержание. И хотя художники-авангардисты продолжали творить в предлагаемых обстоятельствах, тем не менее уже после 1923 гг. они были вытеснены из сферы художественного образования и практически перестали получать поддержку государства.
Об этом непростом периоде свидетельствует переписка (1922 – 1925 гг.) К. Малевича и Э. Лисицкого. В письмах этого периода можно увидеть отчаянные попытки, предпринимаемые представителями левого искусства в борьбе с властными структурами. Так, в одном из его писем мы находим описание непростой ситуации, ситуации жесткой борьбы за возможность жить и творить. Испытывая жесткое давление со стороны властных структур, организованной и сплоченной правой оппозиции в искусстве, Малевич в союзе со своими сподвижниками самоотверженно отстаивал позиции Нового Искусства как в системе организационно-пропагандистской, образовательнохудожественной деятельности, так и в утверждении новаторских идей в творчестве. В сложнейшем противостоянии системе чиновников, «при сильнейшей реакции» против нового искусства им удалось отстоять Музей Художественной культуры, на базе которого был создан исследовательский институт, единственный в своем роде в мире. Казимир Малевич продолжал работу по продвижению идей общества УНОВИСА (Утвердители Нового Искусства), разработке философско-художественной системы супрематизма (подготовка научных статей); активно участвовал в Международных выставках, не теряя веры в необходимость и значимость такой работы для будущего строительства нового мира. [12].
Однако, авангардистские поиски своего места в изменившемся художественном пространстве, плюрализм в художественной среде, романтические идеи о конструировании новой реальности не вписывались в курс социалистического строительства.
Была ли перспектива иного развития русского авангарда на данном этапе развития советского государства? С точки зрения Иконникова А.В. [2,], автора одного из исследований истории архитектуры и ее взаимосвязи с утопическим мышлением, такая перспектива мало вероятна. Исходя из логики его рассуждений, коммунистическая идеология, утопическая по своей сущности, не может создать условия и возможности инновационного развития общества. В такой стране формируется соответствующий утопический (советский) тип архитектуры, направленный на выполнение определенного (утопического) социального заказа. Если следовать логике автора, то утопическому обществу соответствует и утопическая архитектура с ее «революционными» авангардистскими, конструктивистскими идеями. Есть ли будущее у утопического общества, его идеологии, культуры, нового искусства? Вероятно, перспективы развития новых революционных форм искусства, в том числе конструктивизма в архитектуре, ограничены в историческом времени и пространстве.
По мере решения стоящих перед революцией задач, пространство для свободы выражения мнений значительно сужается. Те задачи, решение которых в начале ХХ века, объединяли и власть, и «левых» художников, в новых исторических реалиях стали непреодолимым противоречием в их недолгом союзе. В результате обострились противоречия между властью и авангардистским сообществом. На новом этапе развития государства требовалось идеологическое единство на основе выработанной политики партии. Единство на основе многообразия и уникальных форм не вписывалось в концепцию пролетарской культуры.
Вместе с тем, как показала история, именно революция обусловила расцвет русского авангарда. На волне революционного подъема русский авангард пережил интеллектуальную революцию в художественном творчестве. Идеи революции нашли отражение в шедеврах художников – авангардистов. История русского авангарда неразрывно связана с революцией и историей нашей страны.
Список литературы Революция и русский авангард (первая четверть XX века): историко-философский аспект
- Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа// Ленин В.И. ПСС: в 55 т.- Т.35. С. 221-223.
- Иконников А.В. Утопическое мышление и архитектура. Москва: Изд-во «Архитектура -С.», 2004.- 400 с.
- Иньшаков А.Н. О будущем в творчестве Эль Лисицкого//Искусствознание. 2018. №4. С.180-219.
- Конституция (Основной закон) РСФСР. 1918г.
- Ленин В.И. Государство и революция// Ленин В.И. ПСС: в 55 т.- Т.33.- С. 5-120.
- Ленин В.И. Из дневника публициста (Темы для разработки) // Ленин В.И. ПСС: в 55 т. -Т.35. – С. 187-194.
- Ленин В.И. О пролетарской культуре// Ленин В.И. ПСС: в 55 т.- Т.41.- С. 336 -337.
- Ленин В.И. О кооперации// Ленин В.И. ПСС: в 55 т.- Т.45.- С. 369-377.
- Лисицкий Э. Доклад «О проунах» / Хан-Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования) - Москва: «Архитектура – С», 2007. – 520 с.: ил.
- Малевич К.С. Издания витебского периода (1919-1922) // Малевич К.С. Собрание сочинений: В 5 т. – Т. 1. – М.: «Гилея», 1995.- 393 с., ил.- ISBN №5 -85302 – 025-0.
- Малевич К.С. Трактаты и лекции первой половины 1920-х гг. с Приложением переписки К.С. Малевича и Э. Лисицкого (1922-1925) //Малевич К.С. Собрание сочинений в 5 т. - Т.4.-Москва: «Гилея», 2003. – 358 с., ил.- ISBN №5 -87987-026-Х.
- Малевич К.С. Новаторы всего мира. Тезисы// Малевич К.С. Собрание сочинений: В 5 т. – Т. 5. – М.: «Гилея», 2004.- 619 с., ил.- ISBN №5-87987-032-4.
- Хан-Магомедов С.О. Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования) - Москва: «Архитек-тура – С», 2007. - 520 с., ил.