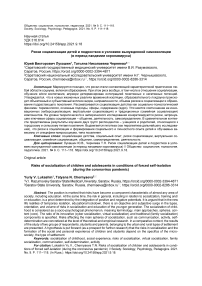Риски социализации детей и подростков в условиях вынужденной самоизоляции (в период пандемии коронавируса)
Автор: Лукашин Юрий Викторович, Черняева Татьяна Николаевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
Маркируется позиция, что риски стали составляющей характеристикой практически любой области социума, включая образование. При этом риск вообще, в том числе в отношении социализации, обучения и/или воспитания, априори детерминирован интеграцией позитивных и негативных потенций. Утверждается, что в новых жизненных реалиях временной изоляции, образовательного локдауна происходит объективный и субъективный всплеск видов, направленности, объема рисков в социализации и образовании подрастающего поколения. Рассматривается социализация детства как социально-психологический феномен: терминология, основные подходы, сферы, содержание (ядро). Уточняется соотношение ее инновационных (киберсоциализация, виртуальная социализация) и традиционных (семейная социализация) компонентов. На уровне теоретического и эмпирического исследования конкретизируются риски, затронувшие ключевые сферы социализации - общение, деятельность, самоопределение. В сравнительном контексте представлены результаты изучения двух групп респондентов - учащихся и родителей, относящихся к городскому и сельскому типам поселения. Выдвигается гипотеза (как перспектива дальнейшего исследования), что риски в социализации и формировании социального и личностного опыта детей и обучаемых зависимы от специфики микросоциума, типа поселения.
Социализация детства, социальный опыт, риски социализации, виртуальная социализация, семейная социализация, общение, самоопределение, деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/149137083
IDR: 149137083 | УДК: 316.614 | DOI: 10.24158/spp.2021.9.18
Текст научной статьи Риски социализации детей и подростков в условиях вынужденной самоизоляции (в период пандемии коронавируса)
Социализация из области теоретических изысканий прочно вошла в повседневный образовательный оборот, фигурируя во всех ФГОС, нормативных документах различных уровней (федерального, регионального, муниципального, учрежденческого). Отправным моментом этого, на наш взгляд, являлось, с одной стороны, введение термина «социализация» в контекст ключевых понятий, используемых в Федеральном законе «Об образовании в РФ» (№ 273 ФЗ) (например, «образование», «воспитание»); с другой – признание данного процесса максимально значимым, глобальным как для отдельного человека, личности, так и для общества в целом.
Безусловно, социализация выступает предметом изучения многих научных областей, каждая из которых в соответствии с собственным ракурсом предлагает понимание ее сущности и структуры. Так, педагогическая психология рассматривает механизмы и закономерности формирования социокультурного опыта в контексте образовательного процесса, предполагающего взаимодействие двух субъектов, двух носителей данного опыта – обучаемого и педагогического работника (А.В. Петровский, В.А. Крутецкий, Н.Ф. Талызина, И.Я. Зимняя и др.). Теория школьной адаптации (A.A. Баранов, М.В. Григорьева, А.К. Маркова, A.A. Реан, А.Р. Кудашев и др.) раскрывает особенности и динамику средового погружения ученика в образовательный социум.
В социальной психологии и педагогике центром теоретического изучения и объектом непосредственной практической работы выступает ребенок в сложном процессе социализации. Не разрушая общего контекста понимания социализации («как процесса усвоения социального опыта, его обобщения и преобразования с включением (интеграцией) в существующие подсистемы личности и объективацию ее (трансляцию) в системе социальных связей» [1]), в социальной педагогике акцент переносится на тактики (поддержку, защиту, заботу, опеку, наставничество и др.) и степень участия не просто Другого, а именно взрослого Другого в социализации представителя следующего поколения в темпоральном плане межпоколенных практик.
Именно поэтому социализация рассматривается через призму приобщения старшим поколением последующего к нормам, ценностям, традициям, культуре конкретного общества, через усвоение уже накопленного социумом опыта, с одной стороны, с другой – через его активное воспроизводство, изменение (+/–) и формирование на этой основе собственного социального и личностного опыта. При этом глагольная форма – «приобщение» – здесь принципиальна. Вместо «привития», «трансляции» и «передачи» как субъект-объектных моделей воздействия, согласно современному пониманию образования, его витальной пролонгированности и отсутствия единообразных результатов, пришло осознание субъект-субъектности происходящего. В этом плане именно «приобщение» как возможность включиться в какую-либо деятельность обозначает позицию не столько значимого Другого в процессе социализации ребенка, сколько собственно последнего [2].
Социализация детства (феномен взаимодействия в системе координат «взрослый – ребенок») происходит в трех основных сферах: деятельность – общение – самосознание [3], в каждой из которой, в свою очередь, выстраивается сложнейшая цепочка формирования и последующего развития социальных ролей, позиций, установок и норм поведения. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что жизнь социума разделилась на до COVID-19 и после него. Причем большинство проблем, возникших при этом, оказались идентичными для различных географических, политических, экономических и даже идеологических сообществ. Безусловно, изменения во взаимоотношениях взрослого и ребенка были частично спрогнозированы в концепциях педагогической психологии.
Теория развития, по Ж. Пиаже, предполагает последовательность, баланс между ассимиляцией, аккомодацией и равновесием как обязательными механизмами развития и адаптации ребенка к окружающей среде [4]. Вместе с тем в ней отмечается необходимость достижения паритета между ассимиляцией и аккомодацией. Однако современные реалии показывают, что действия с новыми предметами на основе имеющегося опыта (ассимиляция) усиливают ригидность мышления, в то время как устранение несоответствия между опытом, составляющими его умениями, навыками и механизмом выполнения действий, деятельности, поведения и возможностями частично блокируется изменившимися условиями обучения и развития.
Культурно-историческая концепция (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев) базируется на диалогичности двух миров, двух опытов – ребенка и взрослого, обеспечивающих стадиальность как накопления новых возможностей, так и преодоления закономерных кризисов возраста. Искусственное, вынужденное сужение зоны ближайшего развития ребенка потенциально оказывается рискогенным в плане снижения возможностей общения его с большим количеством субъектов взаимодействия.
Следовательно, «до» – это период прежнего социального бытия, сопровождающийся дискуссиями различного уровня по вопросам образования (обучения или воспитания) с учетом национальных и региональных специфик, научных концепций и имеющихся практических традиций. Во временном аспекте «до» – период, предшествующий введению глобальной системы запретов, связанных с пандемией вируса COVID-19, период свободы социального и личностного развития, не регламентированный общей системой ограничений, в том числе в аспекте социализации личности.
«После», или постпандемический мир, – это те новые, во многом непроанализированные и неоцененные реалии, в которых существует человечество сегодня и которые принципиально по-иному предполагают функционирование многих сфер, в том числе социализации, особенно подрастающего поколения. Интересно, что уже сейчас исследователи, сравнивая влияние мирового локдауна на развитие различных секторов – производства, экономики, здравоохранения и др., указывают, что именно «сфера образования оказалась одной из немногих важнейших областей человеческой деятельности, способной продолжать эффективное функционирование в особых (чрезвычайных) условиях» [5, с. 307].
Отметим, что уже предпринимаются попытки осмысления произошедшего и происходящего в различных аспектах жизни общества и личности. Некий «взрыв» произошел в понимании сегодняшнего образования, его ресурсов на всех позициях осознания глобальных изменений: как на уровне обыденной публицистики, впечатлений и опыта педагогов-практиков, сетевого образовательного и профессионального сообщества, так и на уровне пилотных научных исследований. Систематизация и анализ позволили нам выделить проблемные зоны изучения последствий пандемии в аспекте образования вообще: образование в ситуации пандемии (М.Л. Агранович, А.Ю. Валявский, Е.В. Глухих, Г.В. Довгаль, В.А. Зернов, Д.А. Ключников, А.Ю. Манюшис, Т.Н. Шу-рухина, Н.В. Учеваткина, А. Чепуренко); цифровой разрыв дистанционного (онлайн) и традиционного обучения (Н.Р. Букейханов, Е.В. Бутримова, Г.В. Довгаль, С.И. Гвоздкова, Е.В. Глухих, Д.В. Новоселова, Д.В. Новоселов, Д.А. Ключников, К. Колесникова, Н. Саванкова, В. Таюрский, Т.Н. Шурухина); проблемы ступеней образования: высшего (Н.Н. Гагиев, А.А. Докукина, Л.В. Константинова, Дж. Маринони, Д.А. Штыхно, Х. ван'т Ланд), основного общего (Р.С. Звягинцев, Ю.Д. Керша, С.Г. Косарецкий, И.Д. Фрумин), дополнительного (В.П. Голованов, Н.А. Морозова, З.А. Каргина и др.); инструментальная (техническая, методическая) обеспеченность и психологическая готовность к онлайн-преподаванию, обучению (М.Л. Агранович, В.А. Зернов, В.А. Мальцев, К.В. Мальцев, А.Ю. Манюшис, А.Ю. Валявский, Н.В. Учеваткина); позитивные и негативные (снижение качества образовательных услуг) риски пандемии для образования (М.Л. Агранович, В.А. Мальцев, К.В. Мальцев, И.Д. Фрумин); социально-образовательное неравенство, вызванное различными техническими возможностями детей, особенно из многодетных семей, в условиях вынужденной самоизоляции (Р.С. Звягинцев, Ю.Д. Керша, С.Г. Косарецкий, И.Д. Фрумин) и др.
Согласно статистике, образовательный локдаун затронул порядка 421 млн учащихся во всем мире, или почти 70 % всех обучаемых [6]. При этом последствия пандемии в образовании условно можно разделить на три группы, затрагивающие различных субъектов: педагогов, де-тей/обучаемых, родителей.
Новые реалии усилили значение семейной социализации как процесса усвоения, дальнейшего развития и трансляции ребенком ролей, образцов поведения, норм и ценностей, значимых для всех членов его семьи. Доковидный период (практически в отношении любого типа семей) отличался стабильным дефицитом межличностного общения внутри семьи, особенно между родителями и детьми. Все это сопровождалось состоянием эмоционально-тактильного «голода», крайне негативно сказывающимся на всем развитии ребенка, в том числе социальном [7]. Внезапная и искусственная территориальная замкнутость превратила семейную социализацию в семейно-квартирную. В силу не зависящих от членов семьи условий (антивирусного локдауна) они оказались вынуждены взаимодействовать на протяжении продолжительного отрезка времени при ограниченности внешних контактов и усилении внутренних.
В отношении социализации детства получился ее некий суррогат, объединивший в себе деформированную ситуацией изоляции семейную социализацию и собственно киберсоциализацию. Отметим, что активизация киберпространства как платформы социализации подрастающего поколения стала предметом исследования задолго до пандемии коронавируса. Разрабатываются и оформляются новые научные направления, связанные с приставкой «кибер», означающей связь с компьютерами и Интернетом, а именно: киберпедагогика, киберпсихология и киберсоциализация. Возможно, благодаря этим научно-практическим направлениям образование оказалось в определенной мере готовым к локдауну, вместе с тем оголив те проблемы, которые прикрывали аудиторно-контактное обучение и безбарьерная социализация.
Киберсоциализация во многом явилась результатом исследований в рамках медиа-, интернет-, онлайн-, информационной и виртуальной социализации. При этом пандемия коронавируса доказала, что существовавшее ранее на уровне научных предположений, частично доказанных практикой, одномоментно получило абсолютное подтверждение в мировом социуме. На протяжении практически всего календарного и учебного года (четвертая четверть 2019/20 и
2020/21 год) обучаемые оказались объективно в условиях вынужденного, насильственного погружения в киберпространство. Сегодня оно стало местом не только обучения, частично воспитания, но и социализации. Если ранее утверждалось, что киберсоциализация выступает важной составляющей общего процесса социализации, то в ситуации жесткого локдауна она вышла на первый план, перенеся базовые сферы реальной социализации (общение, деятельность, самосознание) в виртуальный план. Под киберсоциализацией сейчас понимается «виртуальная компьютерная социализация, социализация человека в киберпространстве интернет-среды, позволяющем осуществлять коммуникацию с виртуальными агентами социализации» [8]. Обратим внимание на виртуальность как основную характеристику данного процесса, предполагающую «то, что есть по существу или в действии, хотя отсутствует формально или в действительности» [9]. В психологии виртуальность (психология виртуальности) связывается с будущим, следовательно, виртуальная социализация может рассматриваться как возможная социализация, «которая согласована с логикой движения индивидуальных жизненных потоков» [10].
Однако в аспекте социализации детства виртуальность по-иному расставляет временные акценты. Дальнейшая перспектива в отношении социализации ребенка предполагает не столько «подготовку подрастающего поколения к будущей жизни» (формулировка педагогики прошлого века), сколько обеспечение его полноценного и разностороннего развития в существующих реалиях. Ребенок живет, учится, взаимодействует, осваивает культуру и нормы макро- и микросоциума, реализуя их в деятельности, системе поступков не «потом», а именно здесь и сейчас. Поэтому виртуальность – это не только возможность (потенциальная составляющая здесь, безусловно, присутствует), но и реальность бытия, «отображение иной, изменяющейся реальности» [11], когда отложить, перенести в постпандемийный мир социализацию подрастающего поколения невозможно в силу непрерывности и необратимости данного процесса. Механизм (социализация) запущен, он работает в новых непривычных условиях. Cегодня задача заключается в осознании не только того, что взрослое сообщество, значимые Другие могут сделать в плане приобщения ребенка к опыту социума, но и того, каким образом можно расширить эти возможности в ситуации потенциального риска.
Риски, в том числе образовательные, имеют вероятностный, неопределенный контекст. Риск так же биполярен, как и многие явления и процессы, связанные с жизненными реалиями человека, человечества. Любой риск несет в себе перспективу как неблагоприятных последствий, доля которых, возможно, потенциально преобладает (отсюда нередкое приравнивание риск = потеря, неудача), так и открытия, успеха. Поэтому последние два года киберсоциализация вкупе с семейной социализацией сопровождалась погружением в ситуацию рискогенности. Многие механизмы процесса социализации все больше стали приобретать черты квазисоциализации (от лат. quasi – якобы, как будто; первая часть сложных слов, имеющих значение «мнимый», «ненастоящий»).
Действительно, если ядром, смыслом и одновременно результатом социализации является сформированный человеком социальный и личностный опыт, то возникают вопросы: какой опыт и в каких сферах «отрабатывался» у ребенка в период пандемии; как непосредственно функционировали сферы социализации (общение, деятельность и самосознание); где опыт собственно «рождается» – виртуально и/или реально; каким образом происходила интеграция этих сфер в условиях COVID-19 исключительно семейной социализации и киберсоциализации. Следует выразить несогласие с делением социализации на негативную и позитивную. Все, что происходит с ядром социализации – опытом, не может трактоваться однозначно биполярно – «плохо – хорошо». Нет, и практически не было четких параметров соответствия, жестких критериев оценки, особенно сегодня, в условиях киберсоциализации, они становятся еще более динамичными, подчас только обретая терминологическое и реальное воплощение. Опыт, какие бы эмоционально пережитые, осмысленные, прочувствованные, интериоризированные жизненные (личные и общественные) события он ни включал, всегда представляет собой субъективно значимый микс побед, успехов, достижений и вместе с тем ошибок, недоразумений, разочарований и т. п. Опыт, как и социализация (в том числе киберсоциализация и семейная социализация), должен рассматриваться в единстве всех жизненных коллизий как человека/ребенка в частности, так и социума в целом.
Подтверждение этому мы смогли получить, проведя практическое исследование вопроса в период первой волны (апрель-май 2019/20 учебного года) пандемии в двух направлениях. Первое предполагало рассмотрение различных аспектов рисков социализации непосредственно детской аудитории в условиях образовательного локдауна. В опросе было задействовано 120 обучаемых подросткового и старшего школьного возраста (±11–17 лет) в силу их готовности дать самостоятельный продуманный ответ. При этом учитывалось их место жительства – 60 респондентов были учащимися городских школ, столько же (60) – сельских. Второе направление связано с изучением мнения родителей / законных представителей по поводу возникших проблем в обучении, развитии, общении, поведении их детей в этих условиях, а также внутрисемейной ситуации в целом. Выборка составила также по 60 человек из села и города.
Диагностическое исследование было построено на базе авторских опросников («Я в условиях вынужденной самоизоляции», «Мой ребенок в ситуации самоизоляции»), основные вопросы которых представлены далее. Работа проводилась в городах и селах Саратовской области благодаря подключению к процедуре диагностики студентов факультета профиля «Психология и социальная педагогика» ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», также находящихся в ситуации дистанционного обучения. Вопросы ориентированы на анализ функционирования главных сфер социализации в условиях вынужденной самоизоляции и сгруппированы в диагностические блоки «Общение», «Деятельность».
Гипотетическое положение исследования заключалось в том, что вынужденная самоизоляция специфически трансформировала основные сферы социализации (общение, деятельность) ребенка городского и сельского социума.
Далее проанализированы полученные ответы по блокам «Общение», «Деятельность» с пометкой, что они были даны после первой волны пандемии, а следовательно, в действие не вступил эффект привыкания и четко фиксировалась острота осознания новых реалий. Основные вопросы, касающиеся сферы общения из авторского опросника «Я в условиях вынужденной самоизоляции», представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Блок «Общение»
|
Вопрос |
Вариант ответа городских/сельск % от общего количества оп |
их школьников, рошенных |
|
|
Как часто в период пандемии Вы реально общаетесь с друзьями? |
Как прежде |
Редко |
Практически не общаюсь |
|
8/23 |
16/18 |
76 /59 |
|
|
Ваш круг друзей остался неизменным? |
Со многими я перестал (-а) общаться |
Появились новые виртуальные друзья |
Да, ничего не изменилось |
|
39/21 |
23/32 |
38/47 |
|
|
Наблюдаете ли Вы сейчас (пандемия) повышенное недовольство, раздражение к себе со стороны родителей? |
Да, пожалуй |
Иногда |
Нет, все как прежде |
|
56/62 |
23/13 |
21/25 |
|
|
Чувствовали ли Вы поддержку и понимание в процессе дистант-обучения со стороны близких? |
Да, они понимали, насколько мне трудно |
Нет, считали, что это лишь упрощает обучение |
Старались поддержать по мере возможности |
|
22/16 |
33/25 |
45/59 |
|
|
Участились ли конфликты в Вашей семье в период пандемии? |
Пожалуй, да |
Скорее нет |
Все как всегда |
|
41/39 |
24/22 |
35/39 |
|
|
Вызывает ли у Вас раздражение постоянное пребывание дома родителей? |
Да. Тотальный контроль |
Иногда |
Наоборот, я рад (-а) побыть побольше вместе |
|
17/21 |
54/68 |
29/11 |
|
|
Изменились ли в период самоизоляции Ваши отношения с родителями? |
Стали лучше |
Много проблем появилось |
Ничего особо не изменилось |
|
39/21 |
32/45 |
29/34 |
|
|
Входили ли в Ваше положение учителя в дистанционном обучении при возникновении проблем со связью? |
Иногда |
Всегда |
Их это не интересовало |
|
16/21 |
23/65 |
61/14 |
|
|
Как лучше, удобнее, объективнее взаимодействовать с учителями? |
Онлайн |
В реальных условиях |
50/50 |
|
45/49 |
32/38 |
23/13 |
|
Несмотря на разброс ответов на вопросы блока, можно утверждать, что сфера общения подверглась «удару» вследствие самоизоляции. Это затронуло всех ее потенциальных субъектов – сверстников, родителей, учителей. Подавляющее большинство городских и сельских школьников отметили, что реальное общение с друзьями было сведено к минимуму, а на его смену пришел виртуальный контакт через различные соцсети. При этом изменился и характер взаимодействия как с родителями, так и с учителями, причем в приблизительном балансе крайних вариантов ответов.
Применение критерия U Манна – Уитни позволило выявить статистически значимые различия показателей данного блока по двум заявленным подвыборкам (U = 318,5 при р ≤ 0,01). Следовательно, сфера общения во время пандемии у городских школьников подверглась меньшей негативной трансформации, чем у сельских, что в определенной мере может быть обусловлено более высоким уровнем внедрении ИКТ, активно протекающей киберсоциализации, развитостью сетевого взаимодействия в условиях города. Специфика «сельской» социализации с ее привычным сезонным уровнем занятости взрослых и невозможностью работы в дистанционном формате выразилась в ограничении возможности как виртуального общения, так и реального, что обусловлено недостаточным обеспечением техническими интернет-возможностями, плотностью проживания, сохраняющемся социальным контролем и др.
Блок вопросов, направленный на изучение деятельностной сферы социализации детей в период вынужденной самоизоляции (таблица 2), подтвердил вывод о том, что ранняя включенность в интернет-образовательное пространство позволила им комфортнее перенести период адаптации, в том числе к новой виртуально-обучающей среде. В этом блоке также обращалось внимание на принятие самого дистанционного обучения, его эффективность.
Таблица 2 – Блок «Деятельность»
|
Вопрос |
Вариант ответа городских/сельских школьников, % от общего количества опрошенных |
||
|
Вы расстались в период самоизоляции со своими увлечениями, хобби, дополнительными занятиями (музыкой, спортом, танцами и др.)? |
Да, к сожалению |
Нет, ничего не изменилось |
Частично |
|
55/79 |
21/10 |
24/11 |
|
|
Как Вы сейчас проводите свободное от учебы время? |
Сижу в Интернете, общаюсь в чатах |
Осваиваю новое хобби |
Как и раньше |
|
82/63 |
13/8 |
5/29 |
|
|
Вы лучше усваиваете информацию, когда сами изучаете предмет в спокойных условиях дома, когда удобно? |
Однозначно да |
50/50 |
Однозначно нет |
|
89/86 |
5/9 |
6/5 |
|
|
Изменился ли объем домашних заданий, учебной нагрузки вообще в период онлайн-обучения? |
Однозначно стал больше |
Немного больше |
Практически такой же, нет |
|
62/76 |
24/29 |
14/5 |
|
|
Согласились бы Вы до конца года учиться только дистанционно? |
Да |
Чередуя реальное и дистанционное обучение |
Нет |
|
45/67 |
35/42 |
20/9 |
|
Ответы учащихся как сельских школ, так и городских позволяют констатировать сужение возможностей реализации различных видов деятельности до преимущественно процесса учения. Вместе с тем все отмечали явные позитивные аспекты перехода на «удаленку», заключающиеся в возможности индивидуализировать собственный темп обучения, сделать его комфортным, менее стрессовым и более качественным.
Использование критерия U Манна – Уитни позволило выявить статистически значимые различия показателей по анализируемому блоку у учащихся в сельских и городских школах (U = 234 при р ≤ 0,01). Это значит, что вынужденное сужение видов деятельностей, доступных для детей в период пандемии, больше затронуло сельских школьников. Сетевые виды взаимодействия, возможность овладения ИКТ у них реализовывались слабее, чем у представителей городских учебных заведений. Кроме того, учреждения дополнительного образования в условиях вынужденной самоизоляции не всегда могли в силу технических возможностей и готовности педагогического коллектива продолжать взаимодействие с учащимися в дистанционном формате.
Второе направление исследования было связано с изучением с помощью авторского опросника мнения родителей относительно изменений, коснувшихся их ребенка в условиях пандемии (таблица 3).
Таблица 3 – Опросник «Мой ребенок в ситуации самоизоляции»
|
Вопрос |
Вариант ответа родителей городских/сельских школьников, % от общего количества опрошенных |
||
|
Изменилось ли психологическое самочувствие Ваших детей в период самоизоляции? |
Стали более спокойными, не так устают |
Стали более тревожными |
Ничего не изменилось |
|
50/54 |
45/39 |
5/7 |
|
|
Ваши отношения с детьми в период пандемии стали |
Лучше |
Хуже |
Не изменились |
|
32/31 |
28/30 |
40/39 |
|
|
Участились ли конфликты в Вашей семье в период пандемии? |
Пожалуй, да |
Скорее нет |
Все как всегда |
|
56/64 |
7/10 |
37/26 |
|
|
Помогаете ли Вы своим детям дистанционно учиться? |
Постоянно поддерживаю |
Иногда |
Нет |
|
44/21 |
21/18 |
35/61 |
|
|
Вызывает ли у Вас раздражение постоянно пребывание детей дома? |
Да |
Иногда |
Нет |
|
31/41 |
24/24 |
45/35 |
|
Применение критерия U Манна – Уитни не выявило статистически значимых различий в рамках анализа показателей опросника по двум подвыборкам (родители / законные представители городских и сельских школьников). Это свидетельствует о том, что ситуация образовательного локдауна, вынужденной самоизоляции и дистанционного обучения детей стала серьезным испытанием и для семейной социализации, обусловила риск возникновения различного рода проблем (вплоть до внутрисемейных конфликтов). Первопричину, источник этого участники исследования видели в однообразии, ограниченности контактов, видов деятельности всех членов семейного социума.
Анализируя ответы на отдельные вопросы, можно тем не менее проследить специфику ответов. В частности, родители сельских школьников не так остро почувствовали изменения внутрисемейных детско-родительских отношений в силу реальной, а не дистанционной занятости на производстве. В то время как в семьях городских учащихся родители продемонстрировали бóльшую готовность прийти к ним на помощь в процессе обучения, внимательнее относились к психологическому состоянию детей, оказавшихся в непривычных условиях обучения и общения. В качестве позитивного момента можно выделить, что взрослые респонденты отмечали крепнущую образовательную солидарность учащихся городских и сельских школ в новых условиях киберсоциализации и онлайн-обучения.
Безусловно, изложенные теоретические и практические аспекты носят дискуссионный характер и требуют дальнейшего уточнения, тем не менее можно сделать следующие выводы. Социализация детства обязательно предполагает присутствие и участие двух субъектов – взрослого и ребенка, диалог, а не трансляцию их опытов. В ситуации локдауна объективно начинают доминировать киберсоциализация и семейная социализация. Социализация вообще и особенно при вынужденной самоизоляции потенциально рискогенна, поскольку допускает возможность как позитивной динамики развития личности, так и негативной. Сферы формирования социального и личностного опыта (деятельность, общение, самоопределение) модифицируются в условиях ограничений по COVID-19 нередко до характеристик «квази». Постпандемийный мир будет сопровождаться возрастанием спроса и ценности реального взаимодействия между миром детей и взрослых при сохранении ресурсов киберсоциализации.
Данные выводы могут быть интерпретированы в форме следующих рекомендаций практическим психологам и социальным педагогам, продолжающим работать в ситуациях риска социализации подрастающего поколения.
-
– При работе с детьми, подростками необходимо учить их видеть в любой ситуации (в том числе вынужденной изоляции) ресурсы самосознания саморазвития, самосовершенствования, самообучения; стимулировать потребность в творческой самореализации, расширении контактов позитивного общения; обучать навыкам, культуре и правилам виртуального взаимодействия (предпочтительнее в одном мессенджере, блоге); предлагать виды деятельности в соответствии с возрастом и возможные в ограниченном (территориально) пространстве реализации.
-
– Во взаимодействии с родителями следует обращать их внимание на использование членами семьи разнообразных форм общения (когнитивное, эмоциональное, материальное, мотивационное и др.) с ребенком; разумный контроль общения в интернет-пространстве (время, частоту посещений, сайты, чаты и т. п.); стимуляцию интереса ребенка к новым видам деятельности, творчества, самовыражения, в том числе виртуальным (разработке авторских программ, 3D-моделированию в Blender, графике, созданию собственных тематических видеоблогов и др.); расширение совместных видов деятельности в рамках как традиционных, так и инновационных форм семейного досуга (кулинария, просмотр и обсуждение фильмов, футбольных матчей, чтение книг, настольные игры, спорт и др.); формирование и развитие навыков самоорганизации сбалансированного отдыха и обучения.
Таким образом, риски в социализации детей и подростков в условиях вынужденной самоизоляции специфично трансформировали ее основные сферы, с одной стороны, введением искусственных барьеров для реального общения, практической деятельности, с другой – открытием новых возможностей самоопределения, самореализации в ближайшем реальном (семья, друзья) и виртуальном социуме.
Список литературы Риски социализации детей и подростков в условиях вынужденной самоизоляции (в период пандемии коронавируса)
- Шамионов Р.М. Социализация личности: системно-диахронический подход // Психологические исследования. 2013. Т. 6, № 27. С. 8.
- Фирсова Т.Г., Черняева Т.Н. Учреждения дополнительного образования как сфера позитивной социализации детей. Саратов, 2019. 140 с.
- Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка: учебное пособие для студентов вузов. СПб., 2004. 272 с.
- Жан Пиаже: теория, эксперименты, дискуссии: учебное пособие для студентов: сборник статей / под ред. Л.Ф. Обуховой, Г.В. Бурменской. М., 2001. 622 с.
- Образовательное пространство России после пандемии: вызовы, уроки, тренды, возможности / В.А. Зернов, А.Ю. Манюшис, А.Ю. Валявский, Н.В. Учеваткина // Научные труды ВэО России. 2020. Т. 223, № 3. С. 304-322. DOI: 10.38197/2072-2060-2020-223-3-304-322
- Колесникова К., Саванкова Н., Таюрский В. Ученье - сеть. Школьников и студентов перевели на обучение в онлайне // Российская газета. Столичный выпуск. 2020. 15 марта. URL: https://rg.ru/2020/03/15/shkolnikov-pereveli-na-obuchenie-v-onlajne.html (дата обращения: 14.09.2021).
- Цинченко Г.М. Семейная социализация и воспитание // Управленческое консультирование. 2014. № 5. С. 86-95.
- Щеглов И.А. Киберсоциализация как предмет социально-философского осмысления // Гуманитарный вестник. 2019. № 5 (79). С. 4. DOI: 10.18698/2306-8477-2019-5-625
- Козубовский В.М. Общая психология: познавательные процессы: учебное пособие. Минск, 2008. 368 с.