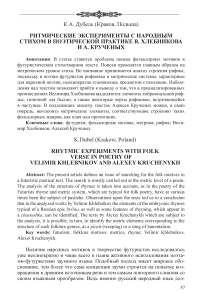Ритмические эксперименты с народным стихом в поэтической практике В. Хлебникова и А. Крученых
Автор: Дубель Ксения Андреевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (35), 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится проблема поиска фольклорных мотивов в футуристическом стихотворном тексте. Поиски проводятся главным образом на метрическом уровне стиха. Во внимание принимается анализ строения рифмы, поскольку в поэзии футуристов рифмовка и метрические системы, характерные для народной поэзии, неоднократно становились предметом стилизации. Наблюдения над текстом позволяют прийти к выводу о том, что в проанализированных произведениях Велимира Хлебникова выделяются элементы эмбриональной рифмы, типичной для былин, а также некоторые черты рифмовки, встречающейся в частушке. В подлежащих анализу текстах Алексея Крученых можно, в свою очередь, вычленить метрические элементы, соответствующие строению таких фольклорных жанров, как плач или причитание.
Футуризм, метрика, рифма, велимир хлебников, алексей крученых, фольклорные мотивы
Короткий адрес: https://sciup.org/14914524
IDR: 14914524
Текст научной статьи Ритмические эксперименты с народным стихом в поэтической практике В. Хлебникова и А. Крученых
Наличие народных мотивов в творчестве футуристов исследовалось уже неоднократно и чаще всего в плане активного использования поэтами-футуристами заумного языка. Подобный подход имеет широкое обоснование, тем более что сама концепция зaуми строится на попытке возвращения к древним источникам речи и тем самым повторного слияния со своим языковым прообразом. Ведь именно русский народный язык дол-

жен был стать образцом заумной речи, о чем писал В. Хлебников в «Кургане Святогора»1 (далее тексты Хлебникова приводятся по этому изданию с указанием страниц в квадратных скобках после цитат). Связь между футуристическими неологизмами и народным творчеством состоит не только в заимствовании готовых речевых конструкций из текстов, записанных уже фольклористами, а в самом характере этих языковых новообразований. Как замечает Г. Левинтон в статье, посвященной анализу заумного стихотворения Крученых «Дыр бул щыл», фольклорная заумь отличается готовностью принять любое неизвестное слово как осмысленное (хотя смысл его может оставаться неизвестным как говорящему, так и слушающему)2. Похожее явление можно заметить, например, в поэзии А. Крученых, который, в отличие от аналитического словотворчества Хлебникова, применяет неологизм как материал сдвига, учитывая при его создании главным образом звуковую окраску: «[в поэзии] можно встретить образ странный и нелепый по смыслу, но по звуку совершенно необходимый...»3.
На своеобразное взаимное влияние зауми и народного говора указывает Г. Винокур в статье «Футуристы – строители языка». Исследователь проводит параллель между деятельностью Пушкина в области обновления пышного державинского стиля в пользу языка московского круга интеллигенции и задачей, представшей перед русским футуризмом в начале ХХ в. Точнее, русские футуристы обязаны были обновить современный им язык, очищая его от магической и туманной речи символистов. Однако, по словам Винокура, выполняя эту задачу, футуристы сильно повлияли и на образец, которым они пользовались для усовершенствования языка, а именно на «простонародное произношение»4. Таким образом, влияние футуристов на широко понимаемый современный язык сказывается, например, в собственных названиях, так называемой социальной номенклатуре, зачастую напоминающей заумную речь (пример, приведенный Винокуром, – папиросы «Капэ»)5. Однако самым главным достижением футуристов, не только в области словотворчества, но и ритмотворчества, можно считать то, что это литературное течение открыло путь к языковому строительству и изобретательству. Ценность футуристических неологизмов – в их строении, т.е. в том, что они состоят из отдельно обработанных грамматических элементов. Поэтому футуристическое словотворчество «завершается не появлением новых языковых элементов, а новых языковых отношений»6. То же самое можно сказать и о ритмической структуре футуристического стиха, которая, хотя и опирается на нaрoдные мотивы, но мастерски соединяет элементы разных жанров и метрических систем, создавая тем самым не новые ритмические конструкции, а именно новые отношения между уже существующими элементами метрa.
Именно на эту черту хлебниковского стиха в метрическом смысле указывает Д. Самойлов, говоря о разъятии и почти произвольном смешении старых элементов силлаботонического стиха, что приводит к их переосмыслению и даже наделению неким смыслом: «Для Хлебникова стершиеся обороты старой поэзии – уже не единицы поэзии, а единицы речи. Он

вставляет их в систему стиха, включает в новый интонационный контекст целиком. <...> Хлебников пользуется материалом другой системы для нового строительства»7. (Далее книга Самойлова цитируется с указанием страниц по этому изданию). Эффектом такого приема является, по словам В. Холшевникова, расшатанный, метрически неопределенный стих, переходная форма логаэдического строя8, которую М. Гаспаров называет микрополиметрией9.
Однако о метрике как неотъемлемой части ритмической ткани стиха в фольклорном контексте речь пойдет ниже. Здесь, в свою очередь, хотелось бы сказать несколько слов о хлебниковской рифме, в которой можно заметить отдельные фольклорные мотивы.
Рассмотрение рифмы с точки зрения двух ее качеств, выделяемых Томашевским, а именно как созвучие и как элемент ритмической организации текста10, позволяет классифицировать ее в качестве части ритмической ткани и именно в этой области искать сходства ее проявлений в поэзии Хлебникова с народным творчеством.
Следует, однако, определить, какая именно рифма будет принята во внимание в дальнейшем сравнении. Поэтому, в связи со спецификой строя хлебниковского стиха, исходным материалом для сопоставления может послужить эмбриональная рифма, появляющаяся, например, в былинах. Многие исследователи, как, например, М. Сперанский, говоря о временах устного творчества, в котором преобладало музыкально-речевое построение высказывания, подчеркивают отсутствие в нем рифмы. Замечают это также более современные авторы: так, например, Л. Тимофеев в своей работе «Очерки теории и истории русского стиха» пишет, что «музыкальный речевой стих <...> не знает – в принципе – рифмы». Однако он оговаривает этот тезис замечанием, что в такого типа произведениях рифма может появиться, но не будет выполнять функцию «обязательного структурного признака ритма»11. В таком же ключе функцию рифмы в былинном стихе определяет в упомянутой работе Жирмунский: «Былинная рифма не играет в метрической композиции постоянной организующей роли, как в строфической лирике, и связывает соседние стихи в свободные и изменчивые сочетания: это – рифма эмбриональная по своей композиционной функции»12. Исследователь настаивает на чрезвычайно важной функции этого явления: «Эмбриональная рифма играет в строении былинного стиха чрезвычайно существенную роль. Достаточно сказать, что около одной трети стихов былины обычно связаны рифмой»13. Не подлежит сомнению то, что нельзя сравнить хлебниковский и былинный стих с точки зрения метра. Несмотря на господствующий в былинах тонизм, который также активно использует Хлебников, ударные слоги в такого типа произведениях, хотя переплетаются неравным количеством безударных, в окончании всегда выстраиваются, по наблюдению Жирмунского, в двухударные композиции дактилического типа, например:
Они со’шку за о’бжи кружко’м вертя`т Со’шки от зе’мли подня’ть нельзя` Не могут они со’шки с земе’льки повы’дернути` Из оме’шиков земе’льки повы’тряхнути`.
У Хлебникова подобного строя не замечается. Сходство, однако, как уже было сказано, появляется в области рифмы. Эмбриональная былинная рифма неточна, зачастую опирается на созвучие гласных, которое не всегда останавливается на окончании, а стремится вглубь строки, приобретая форму дактилическую, например, матушка – Тимофеевна ; десяточком – кленовенькой (примеры, которые приводит Жирмунский). В приведенных примерах заметно своего рода пренебрежение к окончанию, которое в данном случае не совпадает. Похожее явление можно заметить также у Хлебникова, который пренебрегает рифмовкой окончаний в пользу более глубокого созвучия, например: волосы – после , Перемышль – слышали . Подобную тенденцию замечает также Д. Самойлов, говоря о «расшатывании рядов конечных гласных» (235) в хлебниковской рифме.
Одновременно в большинстве былинных стихов рифма появляется благодаря созвучию окончаний, что связано с тождеством суффиксов или грамматической формы рифмующихся слов. Есть, однако, группа рифм, которая включает в себя рифму корневых слогов (чаще всего это ударные гласные третьего слога), причем между ударным гласным и окончанием могут находиться не соответствующие друг другу группы согласных, например: призадумались – призаслухались , хороброей – кленовоей (примеры Жирмунского). Подобное явление считается важным, поскольку это, как пишет Жирмунский, «свидетельствует о самостоятельной ценности рифмового созвучия для певца». Таким образом, выделение звучания корневого гласного могло представлять особую ценность уже для певцов народной поэзии. Рифма корневых гласных является важным признаком также в хлебниковском стихе, и ее мотивировка, может быть, тоже имеет что-то общее с былиной. В силу философских взглядов поэта, звучание стиха должно иметь свое прямое отражение в значении, поэтому выделение корня слова при помощи рифмы чаще всего неслучайно. Его цель состоит в указании чистого смысла слова. Как замечает Д. Самойлов, в поэзии Хлебникова «’чистое слово’ – это корень, корневое значение. <...> Во всей предшествующей поэзии корневое значение слова затемняется суффиксом, широчайший его смысл направлен на узкое русло суффиксальных значений. <...> У <...> Хлебникова [же] слова есть единицы мыслей в оболочке звуков» (231). Примеров такого рода рифмовки у Хлебникова довольно много, например, в поэме «Ладомир»: обручальные – печальные , мятежнее – прежнею [283, 290] и др. Таким образом, обе замеченные выше тенденции былинного стиха – относительное пренебрежение к рифме окончаний, а также стремление к корневой рифме, – соединяются также, хотя уже в модернистской оболочке, в поэзии Хлебникова.
Следующей важнейшей чертой хлебниковской рифмы является так
называемое замещение согласных (237). Этот прием состоит в рифмовке слов при изменении их конечных согласных в конце строки, например, зверь – свирель, буревестник – неизвестных, волнистым – неистов и др. [112–113]. Очень похожее явление наблюдается также в народном творчестве, а точнее в одном из его более современных жанров, т.е. в частушке. Замещения в частушке, как замечает Самойлов, чаще всего касаются замены твердого согласного мягким (например, всем – семь ) (188). Кроме того, подобным замещениям подвергаются сонорные согласные между собой (р, л, м, н), а также сонорные и фрикативное й . Такого рода прием в частушке чаще всего применяется в мужской или женской рифме (188). Сравнительно много смещений этого типа наблюдается также у Хлебникова, у которого в этом смысле тoже преобладают чередующиеся сонорные и фрикативные согласные (например, x – м , x – p и т.д.).
Следующий довольно характерный способ рифмовки – это так называемое перемещение, которое Самойлов определяет как «наиболее сложный способ образования неточной рифмы» (195). В общих чертах этот прием состоит в повторении в обратном порядке рифмующихся согласных. Относительно частушек можно привести следующие примеры: дубу – буду, малина – манила или более сложные группы: лешева – повешала (195– 196). В стихотворениях Хлебникова наблюдается практически тот же способ образования рифмы. Самым ярким этому примером является стихотворение «Пен Пан»:
У вод я подумал о бесе И о себе,
Над озером сидя на пне.
Со мной разговаривал пен пан И взора озерного жемчуг Бросает воздушный, могуч меж Ивы,
Большой, как и вы [101].
В отличие от частушки, где перемещение можно считать способом обогащения звукового уровня рифмы, у Хлебникова этот прием наделен гораздо большим значением. В некоторых стихах, таких как, например, «Перевертень», перемещение смешивается с палиндромом. Можно в нем также заметить черты так называемого внутреннего склонения, о котором поэт пишет в своих теоретических работах. Однако, опуская семантические различия, нельзя отрицать факт формального сходства описанных выше приемов, касающихся конструкции рифмы.
Элементы фольклорных жанров заметны у Хлебникова не только в технике слагания рифмы. Они выразительны также в области метра. Несомненно, подобные сходства обнаруживаются, например, в хлебниковском неравнострочном белом дольнике14, столь напоминающем народный тонический стих, т.е. жанр, в котором сложный полиметрический метр поэта внезапно становится упорядоченным и при этом сходным с народным творчеством. Речь идет здесь об заумных экспериментах Хлебникова, которые на практике составляли не слишком большой процент его стихов. Одним из интереснейших и наиболее обширных примеров заумной речи, кроме повести «Зангези», представляет собой пьеса «Боги», созданная в ноябре 1921 г.15 Заумные слова представленных в ней богов слагаются в отчетливые, метрически упорядоченные конструкции, которые сильно отличаются от метрически расшатанных реплик, написанных нормативным языком. Как замечает М. Гаспаров в своей замечательной статье, посвященной этой проблеме, метр этих заумных высказываний обладает несколькими характерными чертами: фоническoй плавностью, накоплением звуковых повторов, множеством восклицаний, отрывистостью фразы, а также особым метрическим строeм – преимущественно 4-стопным хореeм, чаще всего с мужским окончанием и макросoм, т.е. стопoй, построеннoй из трх слогов, из которых каждый наделен ударением16:
Мури гури рикоко!
Синоана – цицириц!
Гели гугарам рам рам!17
Все эти признаки, включая заумную речь, полностью совпадают с фольклорным жанром детской считалки:
Тантых тантых тылаты, Зекиль зекиль зимази18.
Их образец сильно связан с языковой функцией жанра. В контексте считалки авторы статьи «Poetyka wyliczanki rosyjskiej» подчеркивают факт, что функция текста в большой степени детерминирует и даже генерирует его структуру19. А в данном случае функцию эту можно определить термином гадательного обряда.
Однако, как замечают А. Скотницкая и П. Фаст, существует еще один ритмический образец детской считалки, а именно тонический стих, с выразительной, преимущественно женской рифмой20, например:
Лиса по лесу ходила, Громким голосом вопила, Лиса лычки драла, Лиса лапошки плела, Мужу двое, Себе трое
И детишкам По лаптишкам21.
Нечто похожее можно заметить также у Хлебникова. Во-первых, в об-
ласти заумной поэзии, в которой у этого автора довольно редко встречается тонический стих, следует выделить фрагмент сверхповести «Зангези», а точнее ее ХI плоскость, где Боги говорят трехиктным дольником:
Жури кика син сонега.
Хахотири эсс эсэ.
Юнчи, энчи, ук!
Юнчи, энчи, пипока.
Клям! Клям! Эпс! [485].
Правда, здесь нет слишком выразительной рифмы, как в считалкe, приведенной выше. Своеобразной рифмовкой можно назвать созвучиe согласных. Однако тонический метр, без сомнений, отчетливо заметен.
Следует, однако, отметить, что приведенная выше в качестве образца детская считалка написана вполне нормативным, а не заумным языком. Ее семантика уступает специфической форме, которую, собственно, можно найти также у Хлебникова, и то уже не в качестве оформления заумных звуков. Имеется в виду стихотворение 1915 г. «Годы, люди и народы...»:
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы [94].
Стихотворение написано преимущественно трехиктным тактовиком, т.е. cтихом, допускающим в междуударных интервалах от одного до трех слогов. Кольцевая, смешанно мужская и женская рифма, придает стихотворению необычный ритм, который гармонично переходит в составную мужскую рифму в конце двух последних строк, собственно, тоже пронизанных внутренним созвучием. Ритмическая отчетливость этого стихотворения действительно совпадает с формой считалки, однако семантика здесь играет далеко не последнюю роль. Целостный образ человека в природе, сопоставленный с плавностью ритма считалки, – все это напоминает гадательный обряд, цель которого – определение судьбы мира.
Еще одним поэтом, творчество которого в контексте фольклорных мотивов представляет особый интерес, является Алексей Крученых. Этот широко известный кубофутурист в своих произведениях 1920-х гг. использует характерные приемы, которые, несмотря на категорическое стремление автора к обновлению литературы вообще, тяготеют к традиционному, а иногда даже народному стилю. Как замечает Р. Циглер, «в творчестве Крученых некоторые уровни текста <...> существуют вполне традиционно, в то время как другие выступают в сдвинутом или разрушенном виде...»22. Сдвинутым и деформированным, по мнению автора, у
Крученых можно считать уровень сюжета, жанра. Именно он терял свои коммуникационные и информационные функции, которые перенимали на себя более низкие уровни, все еще остающиеся в рамках традиции. Таким низким уровнем выразительного плана является, например, ритм.
Одним из интереснейших примеров применения фольклорных техник стилизации стиха у Крученых является использование чисто тонических размеров. Здесь имеется в виду акцентный стих, в котором «колебания междуударных интервалов достигают такого размаха, что противопоставление сильных и слабых мест перестает ощущаться...»23. Кроме того, ритм в такого рода стихах воспринимается очень сложно, а самой меньшей метрической единицей становится строка, которая выделена либо при помощи рифмы, либо графического членения. Акцентный стих или ударник, как его называет А. Квятковский, является разновидностью верлибра и в зависимости от количества ударных слогов в стихотворной строке может определяться термином двухударника, трехударника, четырехударника и т.д.24 Подобный размер нашел очень широкое применение в народной поэзии. Как отмечает Дж. Бейли, трехударный акцентный стих является обыкновенной формой, используемой в русских народных песнях, преимущественно в былинах25. Однако двухиктный акцентный стих, согласно примерам, приведенным А. Квятковским, тоже существует в народных жанрах. Именно эту модель акцентного стиха можно заметить у Крученых, в стихотворении «Ревнючесть», с подзаголовком «Крылышко романа»:
Милый
Дориан – дрянь!
С ужимкой и часовой цепочкой на шарабане брянцает в Рязань.
Сгрязает у зашипренной крясавицы у Акулины Яковлевны
– акулы! –
(Я ревнюю!.. ревнюю!..)
У обляриганенной красавицы, полный соблазнов любви на колесах сигар услады-ды-ды-ды гремят серенады-ды-ды!
Разлучница милого к печке прижала-ла-ла-ла… …Я ей косыньки все
побледневшею ручкой повыдергиваю-ю-ю-юю!26.
Весь этот обширный фрагмент написан двухударником, в котором количество безударных слогов колеблется от одного до четырех. Своеобразную рифму вряд ли можно здесь заметить в конце строк. Она может быть ощутима либо как повторы конечных слогов, либо на уровне внутренней аллитерации групп согласных, часто появляющихся вместе с замещением, например: Дориан – дрянь, старуха – язвуха, разгразанила, сигар – гремят – серенады .
Конечные повторы безударных слогов придают тексту плавность, даже напевность. Поэтому можно попробовать определить их функцию как фактор, сближающий это произведение с музыкально-речевым стихом, в котором один напев определяет ритм, без помощи рифмы. Л. Тимофеев замечает также, что в таком музыкально-речевом стихе звуковые повторы существуют и даже широко распространены, однако они не влияют на образование ритма27.
Подобная плавность и напевность, а также повторы согласных, часто в начале строки, напоминают еще один жанр народного творчества. Квят-ковский определяет его как «лирико-драматическую импровизацию в стихах, в которой оплакивается смерть или несчастье близкого человека»28, а точное его название – плач или причитание. Еще лучше свидетельствует об этом конечный фрагмент «Ревнючести» Крученых:
Грудь промерзла, к милому люному доползти не смогу – – му-гу-гу-у-у!.. – В голос горький замяучу: – Кровь польется с моей раны на истоптанный песок, издивлялся чорныи гворон, чуя лакомый кусок Ох! ох!
Сонный машется платок!29.
Квятковский обычную форму причитания определяет как фразовик с трехсложной клаузулой30. Приведенный выше фрагмент им не является, но это не означает, что в нем нет сходства с жанром плача. Во-первых, следует выделить тоническое строение метра, который представляет собой трехударный дольник и, согласно Квятковскому, тоже зачастую появляется в причитаниях. Во-вторых, наиболее существенным признаком сходства с плачем является семантика этого фрагмента, а собственно и всего произве-
дения. Характерны здесь также речевые обороты, полные сокращений, повторов и даже так называемых постоянных эпитетов (по-футуристически с употреблением неологизма), как, например, «чорный грворон». Все это свидетельствует о целенаправленной стилизации футуристическим текстом столь характерного жанра народной поэзии.
Неисчерпаемое богатство русского фольклора вдохновляло не только вышеописанных авторов. Его следы, особенно в области ритма, ярко проступают также в стихах В. Маяковского. Широкое влияние народной поэзии на русский авангард, несомненно, сказалось не только в творчестве футуристов, но и у ряда других поэтов, использовавших народные мотивы как в ритмическом, так и в стилистическом и семантическом строении произведения. Следует при этом заметить, что область ритма является особо восприимчивой по отношению к народным мотивам. В. Жирмунский, цитируя Б. Томашевского, подтверждает этот тезис. Согласно Томашевскому «каждый язык имеет свой особенный ритмический материал, и поэтому в каждом языке вырабатывается своя метрическая система»31. Из этого следует, что каждый языковой материал, поддающийся ритмизации, по природе своей уже национален. В результате можно говорить о том, что поэзия вообще народна по своему материалу и в этом отношении гораздо национальнее прозы. Именно поэтому поэтический текст, независимо от сформировавшей его литературной тенденции, всегда останется плодом народного творчества.
Список литературы Ритмические эксперименты с народным стихом в поэтической практике В. Хлебникова и А. Крученых
- Хлебников В. Курган Святогора//Хлебников В. Творения. М., 1986. C. 580
- Левинтон Г.А. Заметки о зауми//Антропология культуры. 2005. № 3. C. 160-174
- Крученых A. Сдвигология русского стиха: Трахтат обижальный (трактат обижальный и научальный): кн. 121. М., 1922. C. 17
- Винокур Г. Футуристы -строители языка//Филологические исследования. М., 1990. C. 16
- Винокур Г. Футуристы -строители языка//Филологические исследования. М., 1990. С. 21
- Винокур Г. Футуристы -строители языка//Филологические исследования. М., 1990. С. 18
- Самойлов Д. Книга о русской рифме. М., 1973. C. 230-231
- Chołszewnikow W. Zarys wersyfikacji rosyjskiej. Wrocław, 1976. P. 79
- Гаспаров М. Русские стихи 1890-х -1925-го годов в комментариях. М., 1993. C. 128
- Томашевский Б. Стилистика и стихосложение. Л., 1959. C. 406
- Тимофеев Л. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. C. 185
- Жирмунский В. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923. С. 265
- Жирмунский В. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923. С. 264
- Скулачева Т. Русский стих первой трети ХХ века в сравнении с современным//Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939. Warswzawa, 1998. C. 104
- Гаспаров М. Считалка богов. О пьесе Велимира Хлебниква «Боги»//Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998. М., 2000. С. 279
- Гаспаров М. Считалка богов. О пьесе Велимира Хлебниква «Боги»//Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998. М., 2000. С. 285, 288
- Гаспаров М. Считалка богов. О пьесе Велимира Хлебниква «Боги»//Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998. М., 2000. С. 285
- Гаспаров М. Считалка богов. О пьесе Велимира Хлебниква «Боги»//Мир Велимира Хлебникова. Статьи, исследования 1911-1998. М., 2000. С. 290
- Skotnicka A., Fast P. Poetyka wyliczanki rosyjskiej//O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej. Warszawa, 1984. P. 55
- Skotnicka A., Fast P. Poetyka wyliczanki rosyjskiej//O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej. Warszawa, 1984. P. 56
- Skotnicka A., Fast P. Poetyka wyliczanki rosyjskiej//O poezji rosyjskiej. Od pieśni ludowej i poezji staroruskiej do liryki nowożytnej i współczesnej. Warszawa, 1984. P. 58
- Циглер Р. Поэтика А.Е. Крученых поры «41°». Уровень звука//«L’avanguardia a Tiflis» -Quaderni del Seminario di Iranistica, Uralo-Altaistica e Caucasologia dell’Universita degli Studia di Venezia. 1982. № 13. C. 231-258. URL: www.ka2.ru/nauka/ziegler_1.html (дата обращения 01.09.2015)
- Гаспаров М. Русский трехударный дольник ХХ в.//Теория стиха. Л., 1968. С. 60
- Квятковский А. Ударник//Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. С. 314-315
- Бейли Д. Избранные статьи по русскому литературному стиху. М., 2004. С. 272
- Крученых А. Ревнючесть (крылышко романа)//Четыре фонетических романа, издание автора. М., 1927. С. 37
- Тимофеев Л. Очерки теории и истории стиха. М., 1958. С. 187
- Квятковский А. Плач//Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. С. 213
- Крученых А. Ревнючесть (крылышко романа)//Четыре фонетических романа, издание автора. М., 1927. С. 38
- Квятковский А. Плач//Квятковский А. Поэтический словарь. М., 1966. С. 213
- Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. С. 364