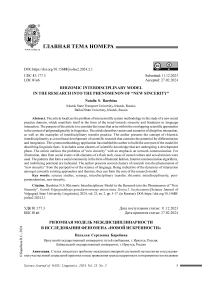Ризомная модель междисциплинарности в исследовании феномена «новой искренности»
Автор: Баребина Н.C.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья локализует проблему междисциплинарной системной методологии в исследовании участка новой социальной практики в виде проявления тренда искренности и откровенности в языковом взаимодействии. Цель статьи – рассмотреть вопросы, возникающие в зоне взаимодействия научных подходов в условиях полипарадигмальности языкознания. Охарактеризованы практика междисциплинарных трансферов, векторы и сценарии взаимодействия подходов и теорий. Представлена концепция ризомной междисциплинарности как нелинейного развития научного поиска, содержащего потенциал дифференциации и интеграции. Системная методология позволила построить ядерную часть модели описания языковых фактов, включающую некоторые кластеры научного знания, проходящие фазу развития. В статье эскизно очерчена проблематика «новой искренности» на примере сетевой коммуникации. Для иллюстраций использованы данные социальных акций с элементами флешмоба, кейсы культуры отмены и экоалармизма. Определены закономерности, которые формируют социальную общность в виде тематической моды, алгоритмов коммуникации в Сети, ее мобилизующего потенциала. Показано несколько кластеров исследования феномена «новой искренности» с позиции науки о языке, которые могут составить ядро модели исследования, так как в них наблюдается динамика взаимодействия между существующими сегодня подходами и теориями.
Науковедение, синергия, междисциплинарный трансфер, ризомная междисциплинарность, постпостмодернизм, новая искренность
Короткий адрес: https://sciup.org/149145965
IDR: 149145965 | УДК: 81:177.3 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2024.2.1
Текст научной статьи Ризомная модель междисциплинарности в исследовании феномена «новой искренности»
DOI:
Проблематика статьи относится к лингвистическому науковедению. Хотя оно не является сложившимся направлением, необходимость обсуждения путей и механизмов взаимодействия разных наук осознается все большим количеством лингвистов: и практиков, и теоретиков. Еще большую востребованность вопросы, связанные с обменом научными подходами, приобретают в условиях возникновения новых феноменов в социуме. Одним из них, требующим научного описания, является «новая искренность». Она, согласно исследованиям последних лет, охватывает политику, моду, искусство, медиапространство [Bowden, 2021; Kelly, 2016; Konstantinou, 2017; Zahurska, 2022]. Эстетика откровенности и искренности становится актуальным коммуникационным трендом [Иссерс, 2020], характерным для «общества усталости» [Хан, 2023]. Появляются научные разработки, показывающие роль сетевой морфологии современного социума, легитимирующей новые клише и модели общения в нем [Фортунатов, Воскресенская, 2021]. Однако систематическое изучение концепции «новой искренности» в языке только начинается.
На наш взгляд, прежде чем приступить к работе с этим материалом и далее – к научному описанию этого феномена с лингвистических позиций, необходимо охарактеризовать исследовательскую парадигму и обозначить потенциальные междисциплинарные связи, обеспечивая таким образом последовательность и достоверность исследования. Первая часть статьи представляет собой экскурс в практику междисциплинарных и внутридисцип-линарных контактов в науке о языке. Во второй части статьи намечены подходы к исследованию проявления «новой искренности» в речи и охарактеризовано их динамичное состояние в аспекте синергетического эффекта. Специфика феномена «новой искренности» такова, что он не может быть изучен только с лингвистических позиций, к этому процессу необходимо подключить другие системно связанные дисциплины и концепции. В статье показано, что пока это проблематично ввиду рассогласованности лингвистических подходов.
Материал и методы
В работе использовался метод обобщения данных по науковедению в виде статей, классификаторов, содержащих рубрикацию задач науковедения, в частности ГРНТИ . Для анализа динамики междисциплинарного взаимодействия применялся метод ретроспекции в сочетании с обзором публикаций по тематике междисциплинарности [Глебкин, 2014; Кошелев, 2018; Авдонин, 2019; Демьянков, 2023; и др.]. Проведен анализ источников по тематике «новой искренности» в языковедческом освещении [Гладко, 2022; Sokolov, Shabrova, 2020; и др.].
Хотя анализ языкового материала не входил в задачи статьи, собран корпус примеров, который был отобран методом сплошной выборки из новостных агрегаторов, в которых представлены кейсы культуры отмены и экологического алармизма. Кроме того, поиск осуществлялся по хештегам #MeToo, #янебоюсьсказать, #faceofdepression. Для разметки текстов привлекались методы функционально-стилистического анализа, методика целостно-текстового анализа при рассмотрении этических конструкций и эмотивных языковых средств.
Результаты и обсуждение
Сложные и междисциплинарные проекты являются нормой в современной научной среде. Это требует объединения знаний и опыта, а также больших усилий по координации работы специалистов. Ученых давно интересует положительный эффект синергии в области междисциплинарного трансфера научного результата [Зимин, 2020; Ратушева, 2018]. Для эффективной интеграции методов синергетики в плоскость лингвистики необходимо обратиться к диахроническому аспекту взаимодействия науки о языке с другими областями. Пользуясь терминологией синергетики и теории сложных систем, отметим, что ретроспекция позволяет задействовать опережающее отражение как стратегию нахождения закономерностей научного прогноза на основе механизмов памяти системы. Одним из таких механизмов, по мысли С.П. Курдюмова, является режим с обострением [Курдюмов, 2004, с. 90], который возникает во время нестабильности. Если исходить из определения науки как системы знаний [Макаренко, 2019, с. 87], то она, будучи элементом мира, содержит и элемент памяти. Поэтому рефлексия относительно динамики меж- и внутридис-циплинарных взаимодействий предоставляет доступ к осмыслению точек роста в формировании современного методологического дизайна в науке о языке.
Приведем примеры. Историко-генетическая (в другой терминологии – историческая, эволюционная) парадигма является направлением, объединившим те школы, которые опирались на принцип историзма. Значимым результатом исследований в рамках этой парадигмы стало построение генеалогической классификации языков и реконструкция праязыков. Данная парадигма легитимировала рассмотрение языка как научного объекта по аналогии с живыми организмами. В научный обиход современного языкознания вошли такие терминируемые биомор-фной метафорой понятия, как морфология, родственные языки, языковая семья, генеалогическое древо, жизнь и смерть языка, языковые мутации и др.
Следующий пример – это таксономия как раздел систематики в биологии, которая реализована в таксономической (структуралистской) парадигме. В сферу приложения данного понятия к дисциплинам, имеющим дело со сложноорганизованными дискретными объектами, вошла и лингвистика. Структурная лингвистика сформировала большой контекст знания, основанного на презумпции о том, что язык состоит из иерархически упорядоченных дискретных элементов. Методы формализации стимулировали составление лексических классов, грамматических парадигм, например падежных и числовых форм, семантических сетей и карт в семантике, иерархии синтаксических предикатно-аргументных отношений – это то знание, которое сейчас представлено в школьном языковом образовании.
Антропоцентрическая парадигма появилась в ходе становления и развития когнитивной науки и рассматривает язык как систему представления знаний. В связи с тем, что эта парадигма формировалась при участии таких наук, как антропология, психология, нейрология, она часто ассоциируется с когнитивной лингвистикой. Генеральной идеей антропоцентризма является представление о человеке как центральном фокусе языка. Исходя из этого, проводятся исследования и выдвигаются теоретические конструкты, которые основаны на изучении языка в его связи с культурой, сознанием, общением и социальными взаимодействиями людей. «Человекоразмерный» фактор в лингвистике дает основания исследовать то, как язык формирует мышление, восприятие мира и механизмы взаимодействия с другими людьми. В настоящее время лингвистика является преимущественно антропоцентрической, экспансия принципа антропоцентризма наблюдается в любом научном иссле- довании и по отношению к любому знанию, связанному с языком.
Имеется много примеров междисциплинарного трансфера из частнонаучных подходов и теорий. Так, некоторые модели коммуникации, разработанные в математике и кибернетике, были адаптированы к языковому взаимодействию, но имеют большое количество недочетов в объяснении принципов коммуникации. Этот пример является иллюстрацией тезиса о том, что взаимодействие разных дисциплин далеко не всегда удачно, в основном оно представляет собой долгий процесс согласования терминологии, методов, областей применения.
Рассмотренные примеры демонстрируют вертикальный трансфер научного взаимодействия, который часто изображают в виде наложения кругов-дисциплин А и Б, имея под этим в виду то, что области взаимного наложения представляют собой различные варианты трансдисциплинарности, наиболее благоприятным из которых является полное совпадение дисциплинарных «кругов», когда образуется новое, общее для дисциплин А и Б знание [Федорова, 2014]. Вертикальный вектор междисциплинарного трансфера знаний в лингвистике означает применение идей, методов и концепций из различных дисциплин к изучению языка и языковых явлений, то есть использование знаний, полученных в других научных областях, для расширения понимания языковых процессов и явлений. Представим это в виде восходящей стрелки (рис. 1) для изображения варианта синергии как сложения суммы факторов и наиболее благоприятного варианта взаимодействия дисциплин.
Динамика взаимодействий может иметь и обратный, нисходящий тренд. Так, историко-генетическая парадигма выступает сегодня лишь как одно из направлений в изучении языка, тогда как ранее ей принадлежала монополия на объяснение языковых фактов. Одно время лингвистика являлась преимущественно таксономической. Выскажем мнение, что в современных дисциплинах языковедческого цикла данная методология играет второстепенную роль в научных обобщениях. При этом существует методологическая проблема разработки принципов и оснований выделения таксонов, классификации языковых единиц разного уровня, например дискурсов. Очевидна и рассогласованность методологических подходов с когнитивным направлением, так как последнее эксплицирует холистичность, а таксономизация предполагает выделение дискретных единиц.
Сегодня в науке высказываются мнения о том, что методологический индивидуализм, характерный для антропоцентрической парадигмы и преобладающий сегодня в науке о языке, имеет негативные последствия. Постулируется кризис антропоцентрической доктрины в связи с чрезмерным увлечением ученых культурными концептами, излишним погружением в психологические аспекты функционирования языков разных этносов. Язык понимается как инструмент культуры, формирующий языковую личность. Этот парадиг-мальный термин несет большую смысловую нагрузку. В общем смысле «языковая личность» – это совокупность речевых особенностей, которую можно проследить по текстам и другим речевым произведениям, что используется в таких подходах, как лингво-
Лингвистика
Область Б
Область А
Рис. 1. Вертикальный вектор междисциплинарного трансфера
Fig. 1. Vertical vector of interdisciplinary transfer
персонология и коммуникативная лингвистика. Языковая личность как научный конструкт задействуется при изучении как конкретного говорящего, так и национальных или социальных языковых типов.
По мнению некоторых исследователей, например Г.Г. Москальчук, антропоцентрическая лингвистика не учитывает физико-биологический слой фактов, законы природы, в которых функционирует текст [Москальчук, 2003, с. 14]. Сходную мысль находим у П. Ли-нелла, считающего, что сейчас «чересчур пристальный интерес к отдельной личности, проявляемый западной культурой и гуманитарными науками, наконец-то начинает входить в разумные рамки» [Линелл, 2013, с. 44], начинает рассматриваться «нейронная, телесная и направленная на реальный мир активность – своя и других – в процессе взаимодействия с артефактами и другими предметами внешнего мира» [Линелл, 2013, с. 44]. Еще один аспект критики антропоцентризма в лингвистике связан с активно разрабатываемым подходом «от языка к мышлению», что означает обусловленность мышления языковой формой. Данный тезис сторонников гиперантропоцентризма не соответствует действительности, так как язык в этом случае выступает в качестве объекта, используемого в инструментальной функции для выражения и передачи мыслей. Такая трактовка является недостатком в общей методологии в исследовании языка [Кравченко, 2022, с. 7], в соответствии с этим М.В. Никитин отмечает ложный постулат лингвистического детерминизма [Никитин, 2005]. А.И. Милостивая пишет, что язык принимает участие в когнитивных процессах, но не он один обусловливает их [Милостивая, 2012, с. 225].
Однако утверждать, что мы стоим на пороге смены научной парадигмы в лингвистике, преждевременно. Идеи пересмотра антропоцентрического императива в науке о языке обсуждались и несколько десятилетий на-
Область А зад. Например, в трудах В.М. Алпатова мы находим рассуждения об антропоцентризме и системоцентризме [Алпатов, 1993]. А.И. Милостивая, продолжая идеи ученого, устанавливает оппозицию «антропоцентризм – неан-тропоцентризм системоцентричного типа» и указывает, что эти подходы не являются взаимоисключающими, что при сохранении антропоцентрического тренда есть возможности сочетать его с точными системоцентрическими методами и приемами анализа эмпирики [Милостивая, 2012]. Мы разделяем такое мнение и выступаем за реализацию принципа дополнительности, который поможет избежать кризисных проявлений в актуальной лингвистической парадигме.
Горизонтальный вектор научного трансфера (рис. 2) представлен во внутридис-циплинарной научной коммуникации.
Во внутридисциплинарном взаимодействии ученых важной проблемой является качество научной коммуникации, которая предполагает сотрудничество между экспертами из разных областей. Однако здесь наблюдается парадоксальная картина. Укажем несколько оснований, вызывающих настороженность методологов науки, предпослав этому тезис о том, что трансфер происходит не только между разделами науки о языке, но и между языковедческими дисциплинами, и ýже – между разными подходами в лингвистике.
Итак, во-первых, кризисные тенденции наблюдаются в научной коммуникации, которая формирует эклектичность научного знания. Это вызвано тем, что разные внутрилин-гвистические дисциплины развиваются изолированно и зачастую противоречат друг другу. Показательны метафоры Вавилонской башни [Кошелев, 2013] и коммунальной квартиры [Олейник, 2008, с. 117], характеризующие научные контакты представителей разных лингвистических школ. В значительной степени данное обстоятельство усугубляется отсутствием консенсуса между лингвистами отно-
Область N
Область Б
Рис. 2. Горизонтальный вектор внутридисциплинарного трансфера знаний
Fig. 2. Horizontal vector of interdisciplinary knowledge transfer
сительно того, что представляет собой естественный человеческий язык, это и делает междисциплинарный дискурс невозможным [Кравченко, 2015, c. 162–163].
Действительно, до сих пор в науке о языке нет единства по вполне простым вопросам. Например, на вопрос о том, является ли язык автономным самостоятельным модулем, ге-неративисты ответят утвердительно, а приверженцы функциональной лингвистики – отрицательно. Проблема роли языка в мышлении также делит лингвистов на два лагеря: одни считают язык инструментом для передачи уже сложившейся мысли, другие придают ему роль полноценного участника в формировании мысли. Как отмечает А.Д. Кошелев, существующие подходы и теории не только противоречат друг другу, но и безосновательно отвергают другие концепции, претендуя на единственно верные подходы к языку [Кошелев, 2018, с. 139]. Есть и другие, более частные проблемы, такие как разнородность терминов и различие концептуальных баз в лингвистических подходах, что является главной проблемой в дисциплинарном общении.
Междисциплинарная концепция исследования
Для того чтобы представить работоспособную концепцию исследования языковой данности «новой искренности» необходима некоторая междисциплинарная модель. Мож- но предложить следующий способ интеграции научных данных других дисциплин.
Во-первых, в построении модели исследования мы считаем важным использовать концепцию ризомной междисциплинарности. Для ее визуализации предлагаем объемную нелинейную структуру ризомы (рис. 3), отношения элементов которой не иерархичны, не противопоставлены друг другу, а формируют некую новую сущность, которую нельзя построить и сформировать путем простого наложения дисциплинарных кругов. При этом в ризомной модели, реализующей символ нома-дологии как концепции отказа от жесткой структуры, можно задавать точки роста в виде некоторых системных опор.
Во-вторых, необходимо построить ядер-ную часть модели. Это важно в условиях рассогласованности лингвистических подходов. По обоснованному мнению А.Д. Кошелева, «наличие оппозиционных друг другу теорий характеризует лишь определенную стадию развития науки, когда она обращается к изучению какого-то нового аспекта своего объекта» [Кошелев, 2018, с. 137]. На наш взгляд, такие оппозиционные теории требуют некоторой генерализации в аспекте комплементар-ности, то есть взаимного соответствия с другими сходными теориями. Где-то они образуют точки бифуркации, а где-то интеграцию. Сами точки бифуркации означают переход на другой уровень или в другое направление исследования. Если ядро признается учеными,

Рис. 3. Образ ризомы
Fig. 3. The image of the rhizome
то далее можно задавать линии исследования, в противном случае разрабатывается альтернативная модель.
Безусловно, возникает вопрос о критериях отбора элементов модели, что предполагает разработку некоторого методологического «фильтра». В основу такого отбора мы предлагаем положить понятия системной методологии. В соответствии с ортогенетическим принципом развития в любой системе происходит развитие от исходной синкретич-ности к большей дифференцированности, а затем – к большей интеграции. Следовательно, нужно зафиксировать, в какой фазе развития находится соотношение научных теорий или подходов – дифференцированности (бифуркации) или интеграции. Рассмотрим значимые для любой динамической системы качественные состояния, которые, как показывает динамика междисциплинарного трансфера, можно описать в виде эклектики, синкретизма, синергии, синергетики. Обратимся к определениям.
«Эклектизм: Система мышления, построенная по принципу коллажа, заимствующая “отовсюду понемножку”; учение, являющее собой смесь учений, своего рода теоретическое “лоскутное одеяло”. Вместе с тем эклектизм претендует на последовательность, что отличает его от синкретизма и превращает в подобие философской системы» (Конт-Спонвиль, 2012, с. 701).
«Синкретизм: 1) нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние какого-либо явления… 2) Смешение, неорганичное слияние разнородных элементов…» (Философский энциклопедический словарь, 1989, с. 583).
Приведенные определения свидетельствуют о том, что эклектика имеет определенный потенциал развития, тогда как синкретизм, наоборот, редуцирует таковой. Эклектика как методология предполагает использование разных научных подходов, методов и инструментов для решения сложных проблем. В современном языкознании существует немало примеров подходов, которые ранее были эклектичными, но сейчас имеют статус продуктивных научных направлений. Таковы теория речевых актов, социолингвистическая модель вежливости, конверсационный анализ. Очевидно, что в раз- работке методологического «фильтра» актуально выявление синергетических сценариев взаимодействия дисциплин. В связи с этим рассмотрим еще два термина системной методологии.
«Синергетика – научное направление, изучающее связи между элементами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых системах (биологической, физикохимической и др.) благодаря интенсивному (потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное поведение подсистем, в результате чего возрастает степень ее упорядоченности, т. е. уменьшается энтропия (т. н. самоорганизация)» (Большой энциклопедический словарь, 2000, с. 1099).
«Синергетическая концепция самоорганизации служит естественно-научным уточнением принципа самодвижения. <…> Синергетика впервые раскрыла механизм возникновения порядка через флуктуации, т. е. отклонения системы от некоторого среднего состояния. <…> По мере выявления общих принципов самоорганизации становится возможным строить более адекватные модели синергетики, которые имеют нелинейный характер…» (Философский энциклопедический словарь, 1989, с. 583).
Для термина «синергия» сложившейся трактовки, единообразной и подходящей для всех гуманитарных наук, пока нет. Существуют типологии и классификации синергии, но словари последних изданий не имеют соответствующей словарной статьи. Ввиду указанной выше проблемы разнородности и противоречивости подходов в лингвистике, приведенные определения показывают, что синергию можно трактовать и как систему знаний, и как практику социальной синергии. В первом случае ученые чаще говорят не о синергии, а о синергетическом эффекте, который обычно обозначают формулой 1 + 1 → 3, показывающей, что эффект действия отдельных компонентов значительно превышает простое сложение. Во втором случае речь следует вести о синергетических основах формирования некоторых сообществ и о том, какова роль языковых коммуникаций в них.
Кластеры знаний в исследовании «новой искренности» как языкового феномена
В русле представленного подхода охарактеризуем парадигмальное знание, в научной оптике которого и предлагается рассматривать явление «новой искренности». Оно связано со сменой мировоззрения, обусловленной «утомлением» от постмодернизма. Место проявлений постмодернизма, таких как искусственность, симулякр, рациональность, ирония, начинают занимать диалог, доверие и искренность в тех дискурсах, которым ранее эти проявления были не свойственны. Утомление, с одной стороны, – это субъективный признак, но он присущ и всему социуму. Это убедительно показывает Б.-Ч. Хан, размышляя об «обществе усталости». По мысли исследователя, усталость проступает в связи с насилием позитивности. Насилие позитивности происходит от перепроизводства, перегрузки и избытка коммуникации, не предполагает враждебности, развивается в толерантном обществе [Хан, 2023, с. 46, 50]. Ученый подмечает характерную черту «общества усталости» в виде перехода от дисциплинарного общества к обществу достижений, которое, в свою очередь, порождает больного депрессией и неудачника [Хан, 2023, с. 57]. Это наблюдение ученого хорошо иллюстрирует тенденцию общей вовлеченности в социальное пространство, где происходит обмен всем со всеми.
Искренность в Интернете достигает невиданных глубин. Очевидно, что это явление имеет определенные закономерности, которые не изучены. Алгоритм действий в коммуникативном пространстве следующий: отправить в Сеть сугубо личную информацию о перенесенном насилии, травле, депрессии, токсичных родителях → получить обратную связь, подтверждение того, что прямо сейчас значительное количество людей испытывает те же чувства. Существует и тематическая мода: волнообразно обсуждается то синдром дефицита внимания и гиперактивности, то абъюзивные отношения, то насилие в семье, то гендерные вопросы. При этом откровенность имеет большой мобилизующий потенциал, в качестве примера можно привести флешмобы #MeToo, #янебоюсьсказать, #faceofdepression, кейс от- мены Джоан Роулинг, которая случайно обидела трансгендерных персон. Так называемую культуру отмены тоже можно отнести к проявлениям «новой искренности». Этот участок коммуникации, в терминах Б.-Ч. Хана, представляет собой энергию негативности, которой управляет переизбыток позитивности [Хан, 2023, с. 126].
Зафиксируем некоторые точки исследования феномена «новой искренности» с позиции науки о языке.
Во-первых, в аспекте междисциплинарного знания важным вопросом являются кризисные состояния, которые в синергетике имеют категориальное значение феномена. В синергетическом ключе нестабильность и кризис освобождены от негативной коннотации, так как они служат импульсом развития [Князева, Курдюмов, 2008, с. 393]. Тренд «новой искренности» стал одним из проявлений нестабильности и развивающегося мира. В начале XXI в. культурологи, искусствоведы, философы, литературоведы начали выдвигать концепции, артикулирующие неясное чувство, ощущение того, что во внешнем мире происходят какие-то сдвиги. Отыскивая название для нового вида современности, ученые предлагали такие проекты, как постпостмодернизм, дид-жимодернизм, постглобализм, метамодернизм и ряд других. Консенсуса среди ученых относительно языка описания актуального времени пока не сложилось. Считаем, что сам языковой материал, структура новой социальности содержат толчок для исследований с разных сторон, что придает явлению «новой искренности» эвристический смысл. Это означает и то, что лингвистика как дисциплина, изучающая все, что вербализовано, оказывается полем формирования межнаучной системной методологии.
Во-вторых, представленная выше информация о синергетических основах становления сообществ показывает, что речь идет об определенной повестке научного мировоззрения относительно функций языка. Как отмечается в публикации Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, предельно краткая характеристика синергетики как научной парадигмы включает всего три ключевые идеи: «самоорганизация, открытые системы, нелинейность» [Князева, Курдюмов, 2008, с. 379].
Описанный выше контекст «новой искренности» демонстрирует смену краеугольной метафоры коммуникации («коммуникация – это передача содержания»), основанной на линейных моделях коммуникации Шеннона – Уивера, а также на модели Г. Лассуэла. В языковом взаимодействии, формирующем тренд «новой искренности», актуально понимание языка не как канала передачи информации о каких-то фактах и мнениях, а как механизма, формирующего социальное пространство. При таком взгляде на язык и коммуникацию составляющие этого процесса, такие как адресант, адресат, эффект, цель, теряют свою значимость. Акцент смещается на социальные инструменты языкового взаимодействия и на специфику социокультурного окружения, когда, например, диагноз становится для человека способом понимать себя и мир вокруг. Уместна метафора «коммуникация – это танец», которая, по мнению А.В. Колмогоровой, более корректно передает смысл феномена языкового общения, в котором значимы такие черты, как наблюдение за внешним окружением, пространством, другими «танцующими», контроль за «движением тела», осознанность и гармоничность действий, предвосхищение действий «партнера по танцу» [Колмогорова, 2012].
В-третьих, феномен «новой искренности» можно описать с позиций дискурсологии и дискурсивной личности. Исследуя этот феномен в языковом аспекте М.А. Гладко показывает, что вербально искренность выражается в демонстрации таких человеческих ценностей, как дружба, справедливость, право, любовь, забота и усталость от иронии и сарказма постмодернизма [Гладко, 2022]. Площадками для «новой искренности» выступает медиадискурс, реклама, политика, и другие дискурсивные практики, а отражение и воссоздание перцептивных и культурных пластов информации преимущественно осуществляется с помощью качественно новой виртуальной реальности.
Лингвокультурные типажи дискурсивной личности включают акторов, транслирующих идеи искренности по роду деятельности (дизайнеры, писатели, политики). Отметим также субъектов-триггеров, обладающих смелостью и ресурсами, чтобы выс- тупить с открытым признанием (как это сделала, например, одна из российских актрис в телепередаче «Секрет на миллион»). Еще один типичный пример – это школьни-ца-алармистка, которая, продвигая экологические инициативы, откровенно рассказывает миру о своем диагнозе и депрессии. Однако по большей части Интернет – это то, что необходимо для «новой искренности» обычного человека, так как именно здесь есть возможности для диалога, принятия, любви, которые невозможно получить в реальности. В этом же аспекте актуально исследовать и языковую личность человека «новой искренности», в результате чего мы получим портрет нового человека. Конечно, трактовка языковой личности нового типа требует уточнения, но уже сейчас можно сказать, что это тип человека, беззащитного перед лицом переизбытка информации, достижений, позитивности.
В-четвертых, отмеченные выше лингвистические парадигмы продолжают сосуществовать. Однако нельзя не заметить и признаки тренда (или по крайней мере подхода) в лингвистике, который можно описать как переход от мозгоцентричности познающей личности к агентивности субъектов. Аген-тивность подразумевает, что любое действие одновременно и индивидуально, и коллективно. Это выводит на первый план важность контекстов и взаимодействий с другими субъектами, с действиями, высказываниями, которые влияют на порождение смысла. По мысли П. Линелла, роль других является значимым принципом диалогизма, когда «ког-ниция возникает из прямых и опосредованных совместных действий с другими субъектами, из которых каждый обладает сознанием, т. е. способностью к порождению смыслов. (В этом состоит принципиальное различие между другим человеческим существом и всяким (неживым) эпистемическим / когнитивным артефактом – таким, как книга.)» [Ли-нелл, 2013, с. 43]. В этом состоит и принципиальное отличие от взаимодействия «организм – среда», которое характерно для био-когнитивной теории. Феномен «новой искренности» – это та сфера, где «фантазия о вращении мира вокруг нашего “я” в коперниковском перевороте сменяется представлением о неумолимо объективном положении дел в большом и неизведанном мире» [Корнев, 2023, с. 447–448].
Как видим, с одной стороны, феномен «новой искренности» наделен признаками сложного научного объекта. С другой стороны, это явление представляет собой благодатную почву для взаимодействия дисциплин, смежных с наукой о языке.
Заключение
В статье была сделана попытка очертить проблемные зоны в формировании синергетического эффекта междисциплинарного и внутридисциплинарного взаимодействия на фоне исследования феномена «новой искренности». Этот модус языковой практики, в которой реализуется откровенное и открытое обсуждение вопросов депрессии, насилия, тревожности, беспокойства и негативности, мало изучен и требует взаимодействия разных дисциплин. Целесообразна и фиксация существующих теорий и подходов к исследованию языка, которую необходимо провести перед анализом эмпирики. На наш взгляд, в настоящее время речь следует вести не о простом наложении дисциплинарных зон и контекстов, которые демонстрируют эклектичность ввиду внутренних проблем, а о ризом-ной, номадической концепции научного поиска, с четкой фиксацией и пониманием того, где находится то или иное исследование – проходит ли оно сейчас фазу бифуркации или интеграции. В работе представлены кластеры знаний в исследовании «новой искренности» как языкового феномена. В соответствии с этим предлагается обратить внимание, во-первых, на язык описания новой социальной реальности; во-вторых, на возможность верификации существующих моделей коммуникации, почву для которой представляет исследуемое явление; в-третьих, на возможность обобщить и скорректировать мнения относительно научного конструкта «языковая личность»; в-четвертых, на создаваемые явлением «новой искренности» хорошие условия для пересмотра методологического индивидуализма антропоцентрической парадигмы в аспекте агентивнос-ти субъекта и диалогизма.
Список литературы Ризомная модель междисциплинарности в исследовании феномена «новой искренности»
- Авдонин В. С., 2019. Об условиях и средствах трансфера знаний в междисциплинарных исследованиях // Социологический журнал. Т. 25, № 3. С. 99–116.
- Алпатов В. М., 1993. Об антропоцентричном и системоцентричном подходах к языку // Вопросы языкознания. № 3. С. 15–26.
- Гладко М. А., 2022. Лингвистическая репрезентация «новой искренности» и чувствительности в медиапространстве // Terra Linguistica. Т. 13, № 4. С. 7–21. DOI: 10.18721/JHSS.13401
- Глебкин В. В., 2014. Смена парадигм в лингвистической семантике: от изоляционизма к социокультурным моделям. М.: Центр гуманит. инициатив: Унив. кн. 368 с.
- Демьянков В. З., 2023. Трансфер в риторике научного дискурса // Когнитивные исследования языка. Вып. 1 (52). Познание и язык: через видимость в сущность: сб. науч. тр., посвящ. юбилею Е.И. Головановой. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та. С. 27–33.
- Зимин В. В., 2020. Методический инструментарий достижения положительного эффекта синергии при сделках слияния и поглощения // Экономика. Бизнес. Банки. № 1 (39). С. 44–54.
- Иссерс О. С., 2020. Грани «новой искренности» в современной политической коммуникации // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Т. 19, № 6: Журналистика. С. 216–227. DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-6-216-227
- Князева Е. Н., Курдюмов С. П., 2008. Синергетическая парадигма. Основные понятия в контексте истории культуры // Живая этика и наука. № 1. С. 379–443.
- Колмогорова А. В., 2012. Концепции и модели коммуникации в современном гуманитарном знании // Вестник науки Сибири. Серия 9, Филология. Педагогика. № 1 (2). С. 272–277.
- Корнев В. В., 2023. Способы думать о мире других (философское послесловие) // Курпатов А. В. Дух времени. Введение в Третью мировую войну. СПб.: Нева. С. 446–457.
- Кошелев А. Д., 2013. Современная теоретическая лингвистика как Вавилонская башня (о «мирном» сосуществовании множества несовместимых теорий языка) // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т. 72, № 6. С. 3–22.
- Кошелев А. Д., 2018. Очерки эволюционно-синтетической теории языка. М.: Яз. слав. культур. 528 с.
- Кравченко А. В., 2015. О предметной области языкознания // Язык и мысль: Современная когнитивная лингвистика. М.: Яз. слав. культуры. С. 153–172.
- Кравченко А. В., 2022. Язык и природа человечности (приглашение к дискуссии) // Слово.ру: балтийский акцент. 2022. Т. 13, № 3. С. 7–24. DOI: 10.5922/2225-5346-2022-3-1
- Курдюмов С. П., 2004. Новые тенденции в научном мировоззрении // Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века: материалы Междунар. науч.-обществ. конф. В 3 т. Т. 1. М.: Междунар. Центр Рерихов. С. 82–91.
- Линелл П., 2013. Два взгляда на природу языка: формальная лингвистика (с ее письменно-языковой предвзятостью) vs. диалогическая лингвистика // Studia linguistica cognitiva. Вып. 3. Когнитивная динамика в языковых взаимодействиях. М.: Флинта: Наука. С. 41–58.
- Макаренко С. И., 2019. Справочник научных терминов и обозначений. СПб.: Наукоемкие технологии. 254 с.
- Милостивая А. И., 2012. Антропоцентризм в лингвистике на рубеже ХХ–ХХI веков: апогей или кризис? // European Social Science Journal. № 10-2 (26). С. 220–228.
- Москальчук Г. Г., 2003. Структура текста как синергетический процесс. М.: УРСС. 296 с.
- Никитин М. В., 2005. Российский уклон в когнитивной лингвистике // Интерпретация. Понимание. Перевод: сб. науч. ст. / отв. ред. В. Е. Чернявская. СПб.: СПбГУЭФ. C. 278–286.
- Олейник А. Н., 2008. Научная коммуникация на стыке парадигм // Общественные науки и современность. № 2. С. 116–128.
- Ратушева В. А., 2018. Разработка паспорта синергии при анализе методов оценки эффекта синергии в сделках слияния и поглощения // Инновационное развитие. № 7 (24). С. 61–64.
- Федорова О., 2014. А и Б сидели на трубе, или Междисциплинарность когнитивных исследований // Логос. № 1 (97). С. 19–34.
- Фортунатов А. Н., Воскресенская Н. Г., 2021. Цифровые компетенции и технологии новой искренности в эпоху Web 4.0 // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. Т. 26, № 2. С. 276–285. DOI: 10.22363/2312-9220-2021-26-2-276-285
- Хан Б.-Ч., 2023. Общество усталости. Негативный опыт в эпоху чрезмерного позитива. М.: Лед. 160 с.
- Bowden M., 2021. Shamelessness and New Sincerity: Dostoevsky, David Foster Wallace, and Trump’s America // Literature of the Americas. № 11. P. 175–182. DOI: 10.22455/2541-7894-2021-11-155-182
- Kelly A., 2016. The New Sincerety // Postmodern / Postwar and After: Rethinking American Literature: J. Gladstone, A. Hoberek, D. Worden. Iowa City: Iowa University Press. P. 197–209.
- Konstantinou L. 2017. Four Faces of Postirony // Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth after Postmodernism / ed. by R. Van den Akker, A. Gibbons, T. Vermeulen. P. 87–102.
- Sokolov A., Shabrova P., 2020. New Sincerity VS Irony: Analysis of the Existing Cultural and Political Discourses in the Media Space // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Vol. 468. P. 191–196.
- Zahurska N., 2022. New Sincerity in Post-Postmodern Art // Вiсник ХНУ iменi В.Н. Харазина. Серiя «Философия. Философскii перипетii». Вiп. 66. С. 19–25.