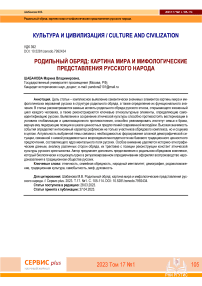Родильный обряд: картина мира и мифологические представления русского народа
Автор: Шабанова Марина Владимировна
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 1 т.17, 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - комплексное выявление семантически значимых элементов картины мира и мифологических верований русских в структуре родильного обряда, а также определение их функционального значения. В статье рассматриваются важные аспекты родильного обряда русского этноса, открывающего жизненный цикл каждого человека, а также реконструируются ключевые этнокультурные элементы, определяющие самоидентификацию русских. Выявление и сохранение этнической культуры способно противостоять вестернизации в условиях глобализации и цивилизационного противостояния, способно реанимировать институт семьи и брака, вернув ему лидирующие позиции в шкале ценностных предпочтений современной молодёжи. Высокая значимость события определяет интенсивный характер рефлексии не только участников обрядового комплекса, но и социума в целом. Актуальность выбранной темы связана с необходимостью форсирования сложной демографической ситуации, связанной с низкой рождаемостью и возрождения многодетности как базового традиционного ценностного предпочтения, составляющего ядро ментального поля русских. Особое внимание уделяется историко-этнографическим данным, анализу различных сторон обряда, их трактовке с позиции реконструкции констант этнической культуры русского крестьянства. Автор предлагает дополнить представления о родильном обрядовом комплексе, который биологически и социокультурно в ритуализированном опредмечивании оформлял воспроизводство народонаселения в традиционном обществе русских.
Этничность, семейная обрядность, народный менталитет, демография, родовспоможение, традиционная культура, самобытность, миф, духовность
Короткий адрес: https://sciup.org/140299759
IDR: 140299759 | УДК: 392 | DOI: 10.5281/zenodo.7992434
Текст научной статьи Родильный обряд: картина мира и мифологические представления русского народа
Submitted: 2023/03/28.
Accepted: 2023/04/27.


SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL
Введение.
Проблема сохранения численности населения в новейшей истории России актуализируется неуклонной естественной убылью. Меры, предпринимаемые государством для поддержания позитивной демографической ситуации, обеспечивающие охват огромного поля важнейших задач, реализуются национальным проектом «Демография». Проект нацелен на поддержку материнства и детства, сохранение здоровья нации, затрагивает широкий спектр вопросов, связывающих изменение рождаемости с финансово-экономическим благосостоянием российского социума. Автор убеждён, что корень демографических проблем имеет не столько социальное и материальное неблагополучие, он неразрывно связан с духовно-нравственным, общемировоззренческим, ценностным, смысловым кризисом. Поэтому столь значимой видится активная позиция государства в области укрепления традиционных мировоззренческих императивов. Меры медицинского и финансово-экономического порядка не способны влиять на личностные смыслы продолжения рода, не могут укреплять ценности детства, материнства, отцовства, не властны над моделью поведения предлагаемой постмодернизмом, в которой мужское и женское освобождаются от каких-либо культурных ограничений и суждений, выходя в плоскость символического. Проявлением нового отношения к действительности стало распространение в западно-европейском мире моды на многообразие половой идентификации. Гендерная принадлежность воспринимается не как природная данность, а как индивидуальный и социально-исторический культурный процесс. Таким образом, представляется перспективным развивать проблематику, связанную с восстановлением традиционных культурных практик: анализ связки мать-ребёнок-отец, интимное пространство дома и семьи. Указанный вектор может способствовать нивелированию непримиримой дуальности человеческой природы, проявляющейся на многих уровнях (душа и тело, сердце и разум и т.д.), и построить целостную систему человека. Рассмотрение проблемы сохранения и приумножения народов РФ, в том числе титульного русского, сквозь историческую ретроспективу, с опорой на опыт предшествующих столетий, может способствовать изменению смысловых ориентиров человеческой жизни и закреплению ценностного континуума необходимого для устойчивой демографической компенсации.
Постановка проблемы. Степень научной изученности. Обряды жизненного цикла традиционно входили в культурную модель и воспринимаются как ключевой элемент самоидентификации любого народа. Познавательный интерес к родильному обряду русских возник в среде представителей интеллектуальной и научной элиты после отмены крепостного права в 1861 году. Именно в конце XIX – начале XX вв. публикуются первые комплексные изыскания по родильной обрядности русского этноса. В указанный период осуществляется сбор историко-этнографического описательного материала. Публикуются ценные сведения в целом ряде работ, посвященных родильным обрядам и представлениям о нём в традиционной культуре русских. Большой этнографический материал записан в многочисленных экспедициях Русского географического общества, начало работы которого, безусловно, стало началом нового витка развития отечественного историко-культурного знания.
Методология и методы исследования. Фокусное содержание исследования проводилось на основании комплексного, всестороннего анализа культурологических и историко-этнографических источников, которые непосредственным или косвенным образом отражают сведения о родильном обряде русского народа в его культовых мотивах как ключевом в системе «обрядов перехода». Автор данной работы опирался в исследовании на такие методологические подходы как системный, культурологический, семиотический, сравнительно-исторический.
Результаты.
Сделан ряд выводов, которые могут способствовать историко-этнографическому изучению традиционной духовной культуры русского народа, комплексной пропаганде национальной ценностно-нормативной системы, способной стать адекватной мерой защиты от давления глобализационных процессов, распространяющих однородные универсальные культурные образцы. Большое значение результаты исследования имеют для сравнительно-исторического изучения традиционной обрядовой культуры соседних восточнославянских народов и реконструкции универсальных представлений и традиционного мировоззрения, отличающихся высокой степенью консерватизма.
Теоретическая и/или практическая значимость. В статье дана социокультурная характеристика родин, она может быть использована при проведении лекционных занятий и семинаров по дисциплинам обществоведческого цикла, при составлении учебных пособий по культурологии, истории России, краеведению, а также в разработке практических рекомендаций по возрождению института семьи и брака, которые дадут возможность рассматривать репродуктивное поведение человека в единстве его культурных и природных начал. Автор убеждён, что организация культурнопросветительских программ для будущих родителей будет способствовать преодолению текущих негативных тенденций в демографической модели современной России.
Родины: ментальные установки и фольклорная интерпретация.
Для русских, как и для других этнических общностей, ритуалы и обычаи, сопряженные с деторождением, сохранением и воспитанием молодого поколения, имели большую социокультурную и практическую значимость [9]. Если физиологические биоритмы организма женщины, течение родового периода, являются общими для всех жителей нашей планеты, то создаваемая веками у каждого этноса концепция разрешения от бремени, заботы и опеки за новорожденным и его матерью, позволявшая самым оптимальным образом приспособиться к окружающим условиям проживания, имели яркую этнокультурную специфику. Такая практика содержала как рациональные, выверенные опытом и временем действия, так и религиозные специфические, иррациональные воззрения, в которых кодифицированы древние архаичные пласты народного мировосприятия [2].
Родины занимают уникальное место в миросозерцании отдельного человека и в традиционной культуре в целом. По мнению автора, роды, во- первых, как любой социально-культурный механизм, переломный момент приводят к смене статуса индивида в социуме и, во-вторых, этап беременности и родовспоможения связан с экстраординарным пограничным состоянием, представление о котором в мифологической картине мира предопределяет усиление опасности для человека и особенной его уязвимости в такой период [6]. Обрядовый родильный комплекс, как важнейшая единица русской традиционной культуры, безусловно, является демонстрацией ценностного континуума и тех многомерных культурных сценариев, которые являются источником идентичности этноса в период глобализации, поэтому столь актуально сегодня дополнение и осмысление научного контекста о ней. Исследование родильного обряда, уходящего своей семантикой в глубокую архаику, позволяет выявить доктринальное сплетение и наложение различных исторических эпох, что имеет важное значение для анализа мифо-религиозной и социально-исторической обусловленности обрядового комплекса [10]. Ритуальный сценарий родин реализовывался в рамках определённой закономерности, имеющей три части и обеспечивающий смену биосоциального статуса главных лиц прецедента:
-
1. Десоциализация – нивелирование признаков прежнего состояния, исключение из коллектива;
-
2. Лиминальный этап – маркирование в статусе «противофазы» обществу;
-
3. Ресоциализация – стадия возвращения в социум, легитимное присвоение новой биосоциальной роли. Приведенная схема находила реализацию в течение всех ключевых моментов жизни: роды, обряды совершеннолетия, свадьба, смерть и похороны.
Родильный обряд принадлежит к типу переходных обрядов (отличительная его особенность состоит в том, что это «двойной» переходный обряд: новый статус приобретает как ребенок, так и его мать), в которых ритуально закрепляется перемена статуса человека, осмысленная в пространственных категориях – как выход из одного локуса и вход в другой. Родоразрешение связано с де-
тально разработанным, многокомпонентным ритуалом, включающим в себя ряд обязательных и факультативных обрядовых действий, нацеленных на обеспечение благополучия младенца и всего семейного коллектива. Таким образом, выделенная сфера культурных представлений являет собой чрезвычайно удобный объект для реконструкции мифологических элементов, существующих в этнокультурной картине мира русского народа [5].
В освещении родильного обряда основное внимание будет уделено двум направлениям. Во-первых, вопросу структурно-семиотического анализа пространственно-временных характеристик. Феномены времени и пространства всеохватывающе и многолико входят в человеческую жизнь, являются глубинными категориями сознания, обязательными для всех членов общества. Человек и общество могут существовать только во времени и пространстве, это аксиома, причем восприятие, «впитывание» этих категорий и представлений происходит неосознанно. Второй вопрос – рассмотрение семантики и функций мифологических представлений в обряде и фольклорных текстов, тесно связанных с обрядом и верованиями. Одно из центральных мест в традиционной архаической картине мира занимает представление о доле, судьбе. В комплексе древнейших воззрений различных народов присутствует представление о непостижимой силе, действием которой обусловлены как отдельные события, так и вся жизнь человека и человечества. Эта сила представляла собой универсальное космическое начало, мировую необходимость, справедливость, в подчинении которой находился весь ход миропорядка. В русском фольклоре её называют судьбой. С понятием судьбы народы всего мира соотносили события в кругу «сущей» жизни, божественное возмездие и посмертное существование. Понятие судьбы нашло свое персонифицированное выражение как в глубокой древности, так и в более современных культурных пластах истории человечества.
Таким образом, обе задачи оказываются неразрывно связанными между собой и подчинены единой цели: рассмотрению родильного обряда как феномена русской традиционной культуры.
Архаичность структуры родильного обряда русского этноса.
По народным представлениям ребенок во чреве женщины зарождается в три дня, «душу младенцу вкладывает Господь в утробе матери ранее его появления на свет Божий», и во второй половине беременности плод уже считается одушевленным. Имея в виду это обстоятельство беременные женщины говорили о себе: «О две души хожу». Печатью сакральности отмечено время родов, отразившееся в представлении о «счастливом» времени рождения. Существенно, что само время родов не случайно, оно определяет судьбу человека (отмечалась взаимосвязь между днями рождения, свадьбы и смерти). В известном смысле роды означают скорее не рождение, а лишь выход наружу, явление в мир людей после пребывания в утробном мире. Важное значение придавалось не только времени рождения, но и пространству, так же, как и время, оно дискретно, аксиологично. Эти качества актуализируются и как бы просвечиваются во время преодоления роженицей пути – в сверхэмпирическом пути понимания этого термина, одного из основных концептов родильного обряда. Исследователями уже отмечалось, что роды нередко описываются как поездка роженицы за ребенком. Здесь важно добавить, что это путешествие было отнюдь не только мыслимым, но воплощалось в «реальном» – на акциональном уровне – поведении людей. При начале родовых схваток роженица выходит на порог дома и, обращаясь к востоку, говорит: «Прости, красное солнышко», затем, повернувшись на запад: «Прости, темная ночь. Одну душу прости, другую на свет пусти». Таким образом маркируется начало обряда и значимость происходящего приобретает космический характер. С этого момента пространство разделено на сакральное, где происходят роды, и про-фаническое. Большинство описаний самих родов указывает на резко возросшую подвижность роженицы, на расширение пространства ее передвижений [1]. Движение роженицы всегда связано с преодолением преград в виде кочерги, ухвата, порога и поэтому требует определенных усилий. Эта «объектная» наполненность дороги свидетельствует о трудности ее прохождения, а значит и ее дальности. Отмеченные свойства дороги – трудность и дальность – являются в мифологическом сознании указателями пролегания ее в иной мир. Само по себе движение – недостаточное условие появления на свет новорожденного. Необходимо достижение цели пути – места, где встречаются мать и младенец. Независимо от его реальной локализации, «родимое» место выделено как точка пересечения пути матери и ребенка и, следовательно, как своего рода центр в аксиологическом пространстве, где происходит рождение – творение микрокосма – человека. Поэтому главная задача роженицы – обрести это место. Видимо, на сакральную отмеченность места родов указывает распространенный обычай обводить роженицу вокруг стола от трех до девяти раз, если роды происходят дома. Стол в этом случае выступает как символ устойчивости миропорядка и как объект, олицетворяющий «свое» – источник силы и благополучия [2]. В целом хождение роженицы вокруг стола инсценирует амбивалентную мифологему появления ребенка на свет, которая на микроуровне может быть прочтена как путь плода внутри тела матери, а на макроуровне – преодоление ребенком пути между двумя мирами. Концептуально движение по кругу (в отличие от линейного) номинирует сакральный характер как действия в целом, так и субъекта действия и наделено в рамках обряда функцией осуществления связи между тем и этим светом. Во время хождения роженица не должна кричать, при потугах она должна становиться на колени, присутствующие не должны громко переговариваться, только шепотом и т.д.
В середине XIX – начале XX вв. широко бытовал традиционный набор превентивных родооблегчающих приемов, таких, как развязывание всех узлов на роженице (а часто и в доме), снимание с нее (а часто и с присутствующих) пояса, застежек и украшений, открывание дверей и окон, размыкание замков, расплетание кос и т. п. Основной смысл перечисленных манипуляций не только в мифологизации границ, характерных для переходных обрядов в целом, но и в лишении женщины всех культурно-социальных характеристик, освобождении («развязывании») продуцирующих сил, присущих природе. Эти действия должны были вызвать аналогичную реакцию в теле роженицы, устанавливая параллель между телом и микрокосмом жилища [11]. Необходимо отметить, что осуществляли раскрывание, развязывание повитуха и другие лица, роженице отводилась пассивная роль. Уникальным архаическим элементом родильного обряда, имевшим достаточно широкое бытование, была кувада, т.е. включение ребёнка в социум отца. Данный структурный компонент родин стал важнейшей семантической константой, гарантирующей «законность» ребёнка, также он санкционировал родство ребёнка не только с матерью, но и с отцом. По мнению некоторых авторов, партнёрские роды получили распространение на заре эпохи патриархата, и в последние десятилетия учёные дополнили интерпретацию обряда функцией повышения социального статуса мужчины – превращение его в отца.
У многих исследователей родильного обряда отмечено, что женщина рожала стоя [12]. Идея стояния, которая красной нитью проходит через весь обряд, соотнесена с идеей вертикальности, предполагающей связь верха и низа. Движение по вертикальной оси – путь ребенка, по горизонтали – роженицы, место родов оказывается точкой пересечения обоих планов и высвечивает тем самым одно из сущностных свойств «родимого» места – стремление к многомерности, «объ-емизации» пространства.
Мотив стояния, вертикальности усиливается акцентированием верхней точки. Во время трудных родов женщины держались руками за веревку или полотенце, закрепленное наверху: «Рушник, в котором носили пасху, привязывается к потолку, и для уменьшения болей женщина держится за него» [8]. Следует отметить, что стоит не только роженица, но и младенец, даже когда он находится в утробе. Особенно существенно, что в обрядовой лексике глагол «стоять» является ключевым именно для младенца, перед непосредственным его появлением на свет. В данном контексте глагол «стоять» отражает динамический аспект, готовность к выходу, прорыву. Стояние обладает сверхэмпирическим смыслом: стоять значит жить. Пока-
зательно, что для описания беременности используется преимущественно глагол «сидеть», сидение подразумевает промежуточное положение между стоянием и лежанием, в мифопоэтическом смысле – между жизнью и смертью. О связи лежания и смерти высказывали свои замечание В.Н. Топоров: «Наиболее яркий образ лежания, воплощение самой этой идеи – мертвое тело» [7] и О.А. Седакова: «С бдением соотносится стояние (сохранение вертикального положения), с лежанием смерть, или сон» [4]. Мотив сна устойчиво связан с загробным миром, смертью. В связи с метафорой смерть – сон чрезвычайно интересно обращение к традиционным колыбельным. Связь фольклорной колыбельной с символикой смерти несомненна; несомненна и универсальность этой связи в человеческой культуре. Магическая исходная прагматика колыбельной – усыпление ребенка, т. е. отправление его в «иной мир» или вызывание гостей из этого мира к его колыбели. Таким образом, можно сделать вывод, что в традиционной картине мира жизнь соотносится с вертикальным положением человека, смерть с горизонтальным.
Метафорическое номинирование частей тела роженицы лексемами вещного и топографического характера, помимо мифологемы роды/до-рога, обнаруживает еще одну семантическую линию. Женщина в родах становится бессловесным пассивным телом, распадающимся на неживые детали окружающего мира, что в сочетании с ее ненормативной внешностью являет образ порождающего хаоса. Культурно-антропологическая доктрина, лишающая роженицу социального статуса, достоинства, личной истории и даже имени, отношение к ней как существу лишенному собственного «я», авторитарный характер коммуникации со стороны медицинского персонала современных родильных домов, позволяет сделать вывод о сохранении традиционной нормативности участников родин. Обращает на себя внимание факт отсутствия комплексного и всестороннего изучения современной медицины как особой культурной практики. О.М. Френденберг пишет: «Утроба матери при родах – это отпирающиеся «небесные ворота»; небо – «мясной ларец», который мать – божество отпирает, «рождая», жен- щина отворяет и затворяет дверь небесную». Согласно традиционным представлениям Небо было единой, вечной, живой и совершенной силой, дающей жизнь. Смерть представляла собой обрыв жизни в земном её представлении и начало жизни в «ином» мире. Жизнь космоса представлялась человеку как огромное космическое веретено, образующее при своем вращении спирали – нити. В народе верили, что человеческая жизнь в период от рождения до смерти представляет собой не что иное, как «нить жизни», которую прядет та великая пряха, дающая жизнь всему живому и именуемая богиней судьбы [4]. В славянской мифологии богиню судьбы называли Макошь. Главным видом женских работ было прядение, ткачество, поэтому Макошь принимали за богиню прядения. По народным поверьям, она плела нити судьбы и сматывала их в клубочки, из которых сплеталась человеческая жизнь от самого рождения до смерти. А богини Недоля и Долюшка завязывали узелки на этих нитях – на счастье, и на несчастье. Подобные представления находят свое выражение и в других этнокультурных зонах славянского мира. Разные по сюжетам, они объединяются наличием общего персонажа – судениц, демонов, низших женских божеств, наделяющих человека долей, и связанным с ними мотивом наречения судьбы. Например, в сербохорватской народной прозе суденицы нейтральны по отношению к оппозиции добро – зло. Понятие судьбы формируется из нескольких альтернатив, положительных и отрицательных, потенциально суденицы могут разыграть сценарий и хорошей, и плохой судьбы [3]. В рамках сюжета наречения злой долей, а именно преждевременной смертью суденицы могут приобретать функции и атрибуты персонажей-вредителей. Они живут на горе, в лесу и под деревом жарят человека. Однако их действия – это не просто характеристика людоедства злокозненного персонажа, а изображение ритуала распоряжения человеческими судьбами, вроде плетения нити человеческой жизни греческими мойрами. Народные сказки сохранили мотив присутствия волшебниц во время рождения ребенка. Как только появляется младенец, неизвестно откуда являются в избу сестры-рожаницы и предсказывают судьбу новорожденного.
Из трех сестер-предсказательниц одна распоряжается родами, другая – брачными союзами; как правило, мнение третьей особо важно: она устанавливает время смерти и расход отмеренного века, наделяет человека долей жизни.
Для выяснения этого представления следует обратиться к той архаической семантике, которая реконструируется в славянском «век» и является общей для многих индоевропейских обозначений времени. Этимология слова век обнаруживает исходную индоевропейскую семантику: жизненная сила. Век как срок человеческой жизни (не имеющий точного количественного измерения) – время наполненное, близкое к доле, время расходования изначально заложенной жизненной потенции. В представлениях о нечестивости пережитого века актуально тоже славянское представление о доле, в котором в данном случае акцентирован семантический мотив части. Важное место в традиционной картине мира занимает представление о доле, доля заключает в себе понятие о жребии, уделе, роковым образом предопределенном будущем как части некоего целого, доставшейся отдельному человеку и находящейся во взаимозависимых связях с другими частями, долями. Все доли составляют часть некоего общего объема жизненной энергии и оказываются соподчиненными.
Из вышесказанного очевидно, что роль картины мира в жизни индивида и коллектива определила особое отношение к её сохранности. Байбурин А.К., оценивая значение и роль обрядов, отмечал: «Основным смыслом традиции как раз и является передача картины мира, и передача осуществляется не столько с помощью текстов, сколько посредством образцов, моделей, на основе которых любой текст может быть воспроизведен заново» [1]. Наиболее мощным средством контроля в передаче информации был обряд, который каждый раз как бы накладывался на конкретную ситуацию, соотнося ее с исходным сакральным прецедентом и одновременно придавая ей статус истинного события. Родильный обряд является конкретной реализацией традиционной этнокультурной картины мира, в которой в полной мере проявляются мифологические представления русского народа. Научное осмысление обрядового комплекса, связанного с рождением ребёнка, представляет сегодня существенный как теоретический, так и прикладной характер. Господство системного подхода к исследованию богатейшего феномена традиционной культуры этноса целостно, и его отдельных элементов, демонстрирует необходимость глубокого изучения именно последних. Их трансформация влечёт за собой изменения в многосложной цепочке элементов духовной и материальной культуры, и в итоге опосредованно связано с сохранением и развитием этноса, как цельной динамически подвижной системы.
Заключение.
Анализ всей совокупности обрядового комплекса родовспоможения позволяет охарактеризовать эту ситуацию как ритуально значимую. Родильный обряд русского крестьянства, унаследовав глубокий архаический пласт языческой культуры, раскрывал значимость ритуала для духовной культуры, который был нацелен на «поглощение» прецедента. Родины, как другие обрядовые комплексы «круга жизни», с позиции трансформации матрицы биологического прецедента в аллегорическую категорию, генетически оформлены на схеме умирания в одном статусе и рождения в другом. Трудно переоценить значение и глубочайший смысл функций обрядового комплекса, он сохраняет механизм коллективной памяти этноса и является системой стабилизирующей порядок в социуме. Динамичное развитие материальных условий человеческой цивилизации оказывало трансформирующее влияние на форму и функции комплекса родильного обряда.
Особенность этого процесса заключается в том, что обрядово-ритуальный нарратив не изменяется молниеносно вслед за изменениями в условиях жизни народа, скорее, приспосабливается к ним. В ядре обрядовых действий родин автор констатирует следующие группы обрядовых действий:
-
1) предродовые: жертвоприношения в случае бездетности (женщины, которые не родили детей, приносили жертвы различным природным объектам), а также ограничение и табуирование поведения беременной;
-
2) манипуляции во время родов: превентивные приемы в случае затяжных и трудных родов (развязывание, расстёгивание, отмыкание), действия с пуповиной и «детским местом»;
-
3) послеродовые: «очищение» матери и новорожденного, молитва по случаю рождения ребенка;
-
4) призванные сохранить жизнь ребенку, например, мнимое «перепекание»/перерождение ребенка и др.
По мнению автора, в развитии современной культуры репродуктивного поведения можно проследить ряд тенденций, которые имеют опору на позитивный опыт предков. Например, появилась возможность «партнерских родов», которые можно понимать современной версией кувады, вписанной в новый культурный контекст деинтимизации репродуктивного поведения.
Автор данной статьи убеждён в несомненной как теоретической, так и практической важности обращения к многовековому опыту социально-культурного воспроизводства населения нашей страны. Также следует учитывать, что многие элементы родильного обряда сохранили функцию ритуала
(например, запугивание женщины с целью усилить родовую деятельность) и, несмотря на современные виртуально-информационные ресурсы, включаются в новое культурное пространство, сохраняя свой нормативный контекст. Предписания родильного комплекса сегодня демонстрируют соответствие каноническому варианту дородового и послеродового периода. Формулировка соответствующих норм сохраняется во многих случаях и иногда получает новые обоснования, в том числе развитые по законам традиционного миропонимания и картины мира на новом материале. Например, традиционная мотивировка не приобретать заблаговременно для будущего ребёнка одежду, предметы ухода, мебель и т.д., потому что «младеня помрёт», сохраняет своё предписание. Традиция получает новую жизнь, новый смысл, новые социальные и культурные параметры. Тем самым является важнейшим механизмом сохранения и трансляции социальной памяти.
Список литературы Родильный обряд: картина мира и мифологические представления русского народа
- Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука,1983. С.6.
- Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Отв. ред. и авт. послеслов. К.В. Чистов. М.: Наука, 1991. - 511 с.
- Редько А. Нечистая сила в судьбах женщины – матери //Этнографическое обозрение. 1899 г. №2. С. 54-131.
- Седакова О.А. Поэтика обряда. Погребальная обрядность восточных и южных славян. М.: «Индрик» 2004. С.39 – 41.
- Степанов В.И. Сведения о родильных и крестильных обрядах в Клинском уезде Московской области// Этнографическое обозрение. 1906 г. №3,4. С. 221-234.
- Сумцов Н.Ф. О славянских народных воззрениях на новорожденного ребёнка// ЖМНП. 1880. №11. С. 68-92.
- Топоров В.Н. Об одном из парадоксов движения. Несколько замечаний о сверхэмперическом глагола «стоять», преимущественно специализированных текстов // Концепт движения в языке и культуре. М.: Индрик, 1996. С.29 – 34.
- Успенский Д. Родины и крестины: уход за родильницей и новорожденным// Этнографическое обозрение. 1895. №4. С. 71-95.
- Харузина В.Н. Несколько слов о родильных и крестильных обрядах и об уходе за детьми в Пудожском уезде Олонецкой губернии// Этнографическое обозрение. 1905. Вып. 1-2. С. 88-95.
- Шабанова М.В. Девочка – невеста – мать: структура гендерной идентичности в этнической культуре русских// Сервис plus. Т.14. 2020. №4. С.115-122. DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10413
- Шабанова М.В. Повитушество как форма народно-медицинских услуг в этнической культуре русского крестьянства// Сервис plus. Т.13. 2019. № 2. С.87-91. DOI: 10.24411/2413-693X-2019-10212
- Щепанская Т.Б. Мифология социальных институтов: родовспоможение // Мифология и повседневность. СПб., 1999. Вып. 3. С.389-423.