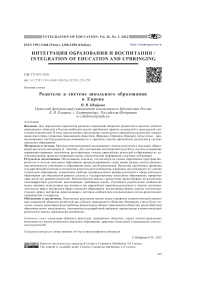Родители в системе школьного образования в Европе
Автор: Шаброва Нина Васильевна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Психология образования
Статья в выпуске: 3 (108), 2022 года.
Бесплатный доступ
Введение. Для определения перспектив развития социальной общности родителей в качестве субъекта гражданского общества в России необходим анализ зарубежных практик социальной и гражданской деятельности родителей. В этом смысле интерес представляет деятельность европейских родителей, отражающая опыт стран с развитым гражданским обществом (Франции, Германии, Швеции). Цель статьи - проанализировать институциональные возможности и практики участия европейских родителей в системе школьного образования. Материалы и методы. Методологической рамкой исследования участия родителей в школьном образовании выступила концепция Д. Эпштейн. Для достижения поставленной цели было изучено содержание нормативно-правовых документов, регулирующих участие европейских родителей в образовании их детей-школьников; проведен вторичный анализ статистической информации и научных публикаций. Результаты исследования. Исследование показало, что несмотря на единое европейское пространство, родители в системе школьного образования проанализированных стран имеют разные институциональные возможности участвовать в образовании своих детей-школьников. Выделены два базовых принципа государственной политики в отношении родительского сообщества, влияющих на особенности их участия в школьном образовании: ограничение свободы индивидуального выбора родителей в сфере школьного образования для обеспечения равного доступа к государственному школьному образованию; приоритет прав детей над правами родителей. Взаимодействие школы с родителями ориентировано на воспитание политкорректных родителей, выполняющих требования школы. Российское родительское сообщество может активнее использовать как минимум две европейские практики реализации и защиты детско-родительских прав и интересов в сфере школьного образования: коллективные формы защиты детско-родительских прав и интересов, консолидацию с местным сообществом для реализации детско-родительских потребностей и интересов. Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие социологической концепции социальной общности родителей как субъекта гражданского общества. Материалы статьи будут полезны ученым, анализирующим проблемы развития российского гражданского общества, представителям образовательного менеджмента, занимающегося разработкой программ гармонизации взаимоотношений родителей и школы; гражданским активистам.
Социальная общность родителей, гражданское общество, школа, институциональные возможности участия родителей в школьном образовании, практики социальной и гражданской деятельности родителей
Короткий адрес: https://sciup.org/147238955
IDR: 147238955 | УДК: 373-055.52(4) | DOI: 10.15507/1991-9468.108.026.202203.539-558
Текст научной статьи Родители в системе школьного образования в Европе
Кризис доверия к традиционным субъектам гражданского общества (общественным организациям, политическим партиям) как в России, так и в мире в целом обусловливает поиск новых источников и катализаторов развития гражданского общества, поддержки его новых субъектов. Наделение социальной общности родителей новыми общественными ролями, новой гражданской ответственностью за детей и выработку публичной повестки позволяет рассматривать его в качестве самостоятельного субъекта гражданского общества [1; 2].
В настоящее время в России начинает складываться концепция родительства как субъекта гражданского общества в теоретическом и практическом плане. Ее формирование имеет большое значение для развития российского гражданского общества. Суть данной концепции заключается в том, что родительство в современном социуме приобретает характеристики гражданского общества, становится его субъектом. Социальная общность родителей интегрируется в гражданское общество посредством включения в его структуру (институты, организации, общности), выполнения его функций. Эта интеграция – есть процесс и результат отношений (связей, взаимосвязей и взаимодействий) социальной общности родителей со структурными элементами гражданского общества и государства. В итоге этих отношений обогащаются социальные практики как самого родительства, так и гражданского общества.
Важно отметить, что сама социальная общность российских родителей находится в процессе становления в качестве субъекта гражданского общества. Родители начинают понимать необходимость самоорганизации и коллективной мобилизации для удовлетворения потребностей и защиты интересов детей и родителей. Между тем включение родителей в социальные и гражданские практики не всегда рефлексируется государством, гражданским обществом и самими членами социальной общности родителей как ее гражданская деятельность. Для преодоления данного противоречия и исследования перспектив становления социальной общности родителей в качестве субъекта гражданского общества в России необходим анализ зарубежных практик социальной и гражданской деятельности родителей. В этом смысле интерес представляет деятельность европейских родителей, отражающая опыт стран с развитым гражданским обществом. Для исследования были выбраны три страны: Франция, Германия и Швеция. Выбор Швеции определен тем, что в ней наиболее эффективно воплощаются идеи «скандинавской модели демократии», Франции и Германии – как ведущих европейских индустриально развитых государств, использующих для достижения своих целей разные пути.
Цель статьи - проанализировать участие европейских родителей в образовании детей в институциональном контексте различных систем школьного образования.
Концентрация внимания на исследовании деятельности родительского сообщества как субъекта гражданского общества в системе школьного образования обусловлена как минимум двумя причинами. Первая заключается в парной вовлеченности детей и родителей в данную систему. Вторая причина состоит в длительности включения родителей и детей в систему школьного образования. Школьное обучение - обязательный и самый продолжительный период реализации и защиты родителями интересов и потребностей детей до их самостоятельности (совершеннолетия).
Обзор литературы
В отечественной и зарубежной науке проблема родительства как субъекта гражданского общества остается мало изученной. Концептуальных работ, содержащих фундаментальное видение данного феномена, очень немного. Среди них отсутствуют монографии, а в периодической научной печати опубликованы статьи, посвященные лишь постановке проблемы [1; 3] либо акцентирующие внимание на отдельных аспектах деятельности родителей и некоторых их функциях как субъектов гражданского общества [4–6].
Одно из наиболее активно разрабатываемых направлений - изучение роли родителей в формировании гражданской культуры детей [7-9] и способов ее формирования1 [10; 11]. Обращает на себя внимание контекстуальный подход к исследованию роли родителей в формировании элементов гражданской культуры детей. Именно он доминирует сегодня в западной литературе. Суть данного подхода заключается в том, что дети (особенно с подросткового возраста) выступают автономными субъектами гражданского общества [12-14]. Они способны самостоятельно формировать свои представления о том, что происходит в общественно-политической жизни и развивать свою гражданскую культуру. Агенты гражданской социализации, в том числе родители, оказывают влияние на данные процессы, но только в качестве контекста.
Еще одно направление исследований родителей в современной науке - это изучение их активности как граждан, обладающих особыми характеристиками, обусловленными их родительским статусом. Ученые выявляют особенности оценки родителями содержания и направлений государственной политики [15], их членства в общественных организациях [16] и участия в общественной деятельности [17; 18].
Наиболее активно анализируются проблемы, особенности и практики гражданского участия родителей в образовании. Специалисты разрабатывают теоретические и эмпирические модели родительского участия в жизни школы2 [19; 20]. Их исследования показывают, что сотрудничество школы и родителей имеет исторические особенности, обусловленные ролью родительства в системе общественных отношений и государственной образовательной политикой.
Названные исследования показывают ряд проблем, отражающих противоречия процесса гражданской деятельности родителей в сфере школьного образования. Во-первых, расхождения в оценках родительским сообществом и работниками образовательных организаций уровня и качества включенности родителей во внутришкольную деятельность [21–23]. Вторая проблема отражает особенности участия родителей в управлении школой [19; 20; 24]. Американские исследователи соотносят низкий уровень вовлеченности родителей в управление школой с ценностями и мотивами данной деятельности, социальным контекстом (экономическими, социальными и семейными обстоятельствами), социальной структурой родительских групп (расовой, этнической принадлежностью, социальным классом), характером приглашений к участию. Российские ученые связывают нежелание родительского сообщества включаться в практики управления школой не только с отсутствием у них потребности и ресурсов (времени, компетенций), но и с имитационным характером данной деятельности, стремлением администраций школ к созданию видимости консолидации усилий.
Направления исследований, представленные в обзоре, определяют интерес к институциональным контекстам проявления гражданской субъектности родителей в школе в различных странах. В связи с чем в данной статье обратимся к анализу практик деятельности родителей в школе как субъекта гражданского общества в европейских странах.
Материалы и методы
В качестве методологической рамки исследования вовлеченности родителей в практики реализации и защиты детско-родительских потребностей и интересов в сфере школьного образования мы используем концепцию родительского участия в образовании, предложенную Д. Эпштейн [19]. В ней рассматриваются шесть типов родительского участия в образовании ребенка в зависимости от модели взаимоотношений и взаимодействия учителей, учеников, родителей и членов местных сообществ: воспитание, домашнее обучение, общение (коммуникации), волонтерство, принятие решений, сотрудничество с сообществом. Нами были сгруппированы указанные шесть типов родительского участия в образовании в три в зависимости от уровня реализации и защиты детско-родительских потребностей и интересов. К первому уровню отнесена деятельность родителей, направленная на реализацию и защиту индивидуальных потребностей и интересов детей и родителей (воспитание, домашнее обучение, общение). Второй уровень предполагает деятельность родителей, ориентированную на реализацию и защиту коллективных потребностей и интересов родителей и детей в рамках школы
(волонтерство, принятие решений); третий уровень – деятельность родителей, направленную на реализацию (и защиту) коллективных потребностей и интересов родителей и детей в масштабах местного сообщества (сотрудничество с сообществом).
Для достижения поставленной цели мы изучили содержание нормативно-правовых документов, регулирующих участие европейских родителей в образовании их детей-школьников; провели вторичный анализ статистической информации и научных публикаций3. В качестве конкретных признаков (показателей) деятельности родителей школьников в системе образования как субъекта гражданского общества для нас выступили: 1) активный выбор родителями способов реализации индивидуальных детско-родительских потребностей и интересов (школы, видов дополнительного образования и др.); 2) включение в волонтерскую деятельность и практики соуправления школой; 3) самоорганизация родителей в формальные и неформальные объединения и консолидация с другими структурами гражданского общества; 4) защита детско-родительских прав и интересов в сфере школьного образования в случаях их ограничения и/или нарушения.
Результаты исследования
Институциональные возможности участия европейских родителей в системе школьного образования. Несмотря на единое европейское пространство, изучаемые страны имеют институциональные особенности организации системы образования вообще и школьной системы образования в частности. Формирование современных нормативных рамок систем школьного образования в названных странах началось с середины XX в.
По данным статистических служб изучаемых стран, в 2019 г. в школах Германии обучались более 8 млн детей4, Франции - около 10 млн5, Швеции - более 1 млн6. Статистический учет родителей школьников в анализируемых странах не ведется. Основываясь на количественных данных о типах семейных ячеек с детьми, подлежащих учету в рамках переписи населения, была рассчитана примерная численность родителей школьников: в Германии их около 10 млн чел., во Франции - чуть менее 16 млн, а в Швеции – немного более 1 млн7.
Сравнительный анализ позволил выделить ряд общих черт и особенностей институциональных характеристик организации систем школьного образования
Германии, Франции и Швеции, а также роли родителей в них8.
К общим положениям нормативного регулирования школьного образования в изученных странах можно отнести следующие:
-
1. Гарантия права на образование. Все страны гарантируют гражданам бесплатный доступ к государственному школьному образованию.
-
2. Обязанность родителей обеспечить получение детьми школьного образования. Неисполнение родителями возложенной на них обязанности влечет санкции, которые зависят от вида, степе -ни нарушения и варьируются от административного наказания до уголовной от-ветственности9.
-
3. Право выбора родителями формы образования и учебного заведения. Родители имеют право выбирать форму образования. В нормативных документах анализируемых стран выделяются прежде всего две формы: в образовательном учреждении (государственном или частном) и вне образовательного учреждения (домашнее обучение). Вместе с тем законодательство
-
4. Гарантия информационной поддержки и педагогического сопровождения родителей. Родители информируются об академической успеваемости их детей. Они имеют возможность получать консультации по всем образовательным вопросам: рекомендации в выполнении домашних заданий, обсуждение проблем пропуска школьных занятий, помощь в гармонизации отношений с одноклассниками и сверстниками, профориентационные консультации и др.
-
5. Гарантия создания в учебных заведениях пространств (доска объявлений, помещения, интернет-форумы) для взаимодействия родителей между собой и с администрацией школы с целью обсуждения школьных вопросов и проблем.
ограничивает возможности выбора родителями обучения в частных учебных заведениях и в рамках домашнего обучения. В первом случае государство накладывает на частные учебные заведения высокие требования к их регистрации и функционированию. Во втором - обязывает родителей получать разрешение для обучения на дому от органов власти и контролирует содержание и методы обучения, используемые родителями. Важно обратить внимание на то, что для того, чтобы получить разрешение на домашнее обучение, родители должны предоставить весомую аргументацию.
Родители имеют право выбирать и учебное заведение для ребенка, но этот выбор имеет ряд ограничений. Первая группа ограничений связана со здоровьем ребенка. При наличии серьезных заболеваний органы власти определяют тип учебного заведения10.
Вторая группа ограничений обусловлена образовательными способностями ребенка. При наличии трудностей в обучении (особенно после начальной школы) административные органы имеют значительное влияние на определение образовательной траектории ребенка11.
Третья группа ограничений в выборе школы связана с местом жительства (регистрацией) ребенка. Выбор родителей обусловлен территориальной принадлежностью государственной школы к месту жительства учащегося. Родители информируются властями о назначении ребенка в школу по месту жительства. При отказе родителей от посещения предписанного учебного заведения и выбора государственной школы по месту жительства родители и ребенок лишаются некоторых социальных гарантий12.
Отличительные черты систем школьного образования Германии, Франции и Швеции и роли родителей в них представлены в таблице. Отметим ключевые аспекты этих различий. Особенности формы государственного устройства анализируемых стран и практика их реализации отражается в государственном регулировании школьного образования. Во Франции и Швеции система школьного образования регулируется централизованно федеральными органами власти, а в Германии - децентрализованно13.
В нормативных документах Франции и Германии, в отличие от Швеции, фиксируется включение родителей в структуру образовательного сообщества наряду с учащимися, сотрудниками школ, местными властями, образовательными ассоциациями, дополняющими государственное образование. Это является отправной точкой в формировании государственной концепции участия родителей в образовании детей, управления школой и защитой родителями прав и интересов (своих и детей).
Во Франции и Германии родите -ли включены в коллегиальные органы управления, их деятельность в управленческих структурах поддерживается властью. Особенно ярко это проявляется во французской системе школьного образования. В соответствии с законом власти содействуют участию делегатов-родителей в жизни школьного управления на всех уровнях. В частности, в нормативных документах Франции закреплена обязанность работодателя предоставить отпуск сотрудникам - членам ассоциации родителей для участия в управленческих структурах (Советах).

Т а б л и ц а. Сравнительный анализ государственного регулирования школьного образования во Франции, Германии и Швеции и участия родителей в образовании детей-школьников T a b l e. Comparative analysis of state regulation of school education in France, Germany and Sweden and the participation of parents in the
14 Период обязательного школьного образования зависит от региона. Например, 10 лет обучения в школе в Берлине, Бранденбурге и Бремене, 9 лет Северном Рейне-Вестфалии.

Продолжение таблицы / Extention of table
родителями, либо равного представительства педагогов и родителей. В средней школе в большинстве случаев стремятся к паритетному квотированию представительства учителя, родителя и ученика. См. Bildung und Erziehung als gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule.
Окончание таблицы / End of table
1 I 2 | 3 | 4
16 В перечень основных родительских ассоциаций Франции входят Федерация родителей учащихся государственных школ (PEEP), Федерация родительских советов учащихся государственного образования (FCPE), Национальный союз автономных ассоциаций родителей студентов (UNAAPE), Национальный союз ассоциаций родителей бесплатного образования (UNAPEL). См. Les parents à l'École. URL: (дата обращения 21.01.2021).
Кроме того, отдельным категориям родителей, которые участвуют в определенных комиссиях, советах или других консультативных органах национального образования, покрываются расходы на проезд или проживание17. Полагаем, данная практика поддержки участия родителей в школьном управлении может быть использована и в других странах, в том числе в России.
Хотелось бы обратить внимание и на государственную поддержку французских властей родительских объединений и ассоциаций (как на уровне школы, так и муниципальном, региональном и федеральном уровнях). Эта поддержка проявляется не только в учете мнения родителей путем включения их в структуру совещательных органов, но и в создании условий для деятельности родительских сообществ. В этом плане важно подчеркнуть законодательно закрепленные демократические процедуры: включение представителей родительского сообщества в совещательные органы власти через выборы. Считаем, что данный способ включения представителей родительского сообщества в управленческие Советы также может использоваться в России и других странах. Он не только дает возможность каждому родителю баллотироваться в различные Советы, но и демонстрирует детям модель гражданского поведения.
Важно отметить отличия в анализируемых странах доминирующих форм и способов защиты родителями прав и интересов (своих и детей). Родители во Франции и Германии имеют возможности использовать как коллективные, так и индивидуальные формы защиты прав и интересов путем обращения к представителям образовательной организации (педагогам, коллегиальным органам управления школой, администрации), в органы исполнительной и судебной власти18. В Швеции родители имеют право использовать преимущественно индивидуальные формы защиты прав и интересов (своих и детей) посредством обращения в суд. Законом об образовании Швеции четко определяется перечень вопросов, подлежащих апелляции в органы исполнительной власти. По большинству вопросов апелляцию может подать только ученик.
Практики участия европейских родителей в системе школьного образования. Анализ деятельности европейских родителей в системе школьного образования начнем с изучения возможностей и критериев выбора школы. Институциональные условия, особенности организации системы образования (в том числе школьного) оказывают существенное влияние на свободу выбора родителями школы. Бóльшей свободой выбора школы (но не формы образования!) обладают шведские родители. Они могут свободно выбирать практически любую школу, которую предпочитают. Шведская система выбора школы построена по принципу: кто не осуществил активного выбора, автоматически зачисляется в школу по месту жительства. К активному выбору, как показывают исследования, прибегают около 30 % учащихся и их родителей. Чаще активный выбор делают коренные жители, проживающие в районе с низким уровнем ресурсов, и те, чьи родители имеют более высокий уровень образования и высокие доходы [25]. Основным мотивом активного выбора школы является возможность получения доступа к школам с высоким социально-экономическим статусом. Несмотря на широкие возможности выбора, в шведской модели образования существуют свои барьеры. Один из них – вместимость школы. Если количество детей, поступающих в государственную школу, превышает количество свободных мест, приоритет отдается учащимся, проживающим в районе, географически наиболее близком к месту обучения [26]. В большей мере этот барьер влияет на возможности выбора школы теми родителями, чьи дети имеют какие-либо проблемы со здоровьем. Исследователи установили достаточно высокий уровень дискриминации в приеме (и организации обучения) детей с какими-либо заболеваниями [26; 27].
С 1960-х гг. распределение школьных мест во Франции осуществлялось исключительно по территориальному принципу. В рамках своей предвыборной кампании 2007 г. Н. Саркози, стремясь расширить свой электорат за счет родителей, пообещал значительно ослабить территориальный принцип зачисления в школу. Придя к власти, он выполнил свое предвыборное обещание - в Кодекс образования Франции был внесен ряд поправок, позволяющих родителям выбирать школу для своего ребенка [28]. Исследования мотивов выбора школы французскими родителями показали несколько интересных моментов [28; 29]. Наряду с традиционными мотивами, характерными для родителей большинства стран мира (получение качественного образования, поддержание социальной однородности (этнической, классовой и др.), обеспечение удобства и безопасности повседневных практик (дорога до школы и обратно)), у французских родителей есть и специфические. К ним можно отнести согласие с «идеологией» территориального закрепления зачисления в школу, цель которой заключается в поддержании равных возможностей доступа к образованию детей из разных социальных групп и укреплении социального капитала местного сообщества за счет совместного родительского контроля вне школы безопасности детей по соседству [29]. Специфические мотивы, по мнению исследователей, следует соотносить с контекстом французского гражданства, проявляющегося в мультикультурализме, обязанности избегать социальной сегрегации и неравенства.
Информация, которую французские родители используют для выбора школы, в основном черпается из неформальных источников: их собственного опыта, мнений учителей и других родителей. Общедоступные показатели успеваемости, рейтинги школ не являются доминирующим источником информации для выбора учебного заведения. Важно подчеркнуть, что ученые обращают внимание на модель совместного принятия решения в выборе школы родителями и детьми: родители предоставляют ребенку набор школ, из которых он может выбирать, а затем «ребенок принимает решение» [29].
Наиболее ограниченным является выбор школы в Германии. За исключением нескольких земель, школа, которую будет посещать ребенок, определяется местом проживания19. Вместе с тем именно для немецких родителей выбор начальной школы является наиболее важным, поскольку уже после ее окончания ребенку необходимо определиться (получить рекомендации по выбору) с образовательным треком [30]. Последнее обстоятельство обуславливает не только мотивы родительского выбора школы, но и способы его осуществления. Говоря о мотивах выбора школы немецкими родителями, следует подчеркнуть доминирование такого мотива как качество обучения в школе (в частности, успеваемость в школе), так как образовательные достижения в начальной школе определяют доступ к академическому треку и, как результат, к университету и хорошей работе [31]. Поскольку родители обладают разным экономическим, социальным и культурным капиталом, они имеют отличительные ресурсы и для доступа в школы, и к информации о них [32; 33]. У представителей среднего класса больше возможностей (ресурсов), чем у родителей рабочего класса. Для родителей среднего класса важным мотивом является «правильный» состав школы (низкая доля детей из семей, получающих пособия, без миграционного прошлого).
Значительное влияние качества образования в начальной школе на определение (выбор) образовательного трека детей заставляет немецких родителей использовать не только институциональные способы выбора школы (переезд в другой район, город, землю) [34; 35], но и неинституциональные (предоставление ложного адреса, фиктивная регистрация ребенка у знакомых, родственников и др.) [32].
Важно обратить внимание на обвинительную риторику политиков и исследователей в адрес европейских родителей, осуществляющих активный выбор школы как фактор, усиливающий социальную сегрегацию [25; 33; 36].
Активность взаимодействия европейских родителей анализируемых стран со школой обусловлена институциональной позицией родителей в системе образования. Несмотря на провозглашаемое во всех странах партнерство семьи и школы, на практике оно реализуется в несколько усеченном виде [6; 37]. Косвенным подтверждением этого выступает незначительное число научных работ (особенно эмпирических), посвященных исследованию социального и гражданского участия родителей в системе школьного образования.
Еще одним аргументом, доказывающим декларируемый характер взаимодействия школы с семьей, служит высказывание шведских исследователей, включившихся в систему школьного образования как родители. Они отмечают: «Мы ожидали, что будем участвовать в обсуждениях и даже определять стратегии по образовательным вопросам, касающимся целей и методов обучения, климата в классе, правил выполнения домашних заданий, использования мобильных телефонов, организации внеучебных мероприятий. Тем не менее наши просьбы о предоставлении нам права голоса в образовании наших детей обычно отклонялись. Вместо того, чтобы быть принятыми в качестве компетентных сотрудников, на родительских встречах нам рассказывали об установленных правилах, которые требовалось соблюдать» [6, p. 379]. Установка школы говорить о сотрудничестве с родителями в основном с точки зрения школьных прав, прав и обязанностей родителей, авторитетным образом акцентируя внимание на права и положение родителей, характерна и для других европейских стран.
В поисках ответа на вопрос о причинах неготовности и недоверия школьных властей к участию родителей в формировании актуальной школьной повестки ученые провели анализ становления образовательных принципов в Швеции. Они выделили три ключевых причины, обусловливающие непринятие шведских родителей в качестве полноправного субъекта образовательных отношений [6].
Первая причина - это трактовка властью доминирующего субъекта, ответственного за образование детей. Школьное образование, по мнению европейских властей, выступает общественным благом и подразумевает обучение терпимости к убеждениям других и развитие готовности подчинять индивидуальные интересы коллективным, воспитание политкорректного и лояльного к государству гражданина. В этом смысле принцип общественной (государственной) ответственности за образование детей вступает в противоречие с принципом демократического участия родителей в образовании детей как позитивной и конструктивной силы. Исходя из этого, не только пассивные, но и активные родители, защищающие потребности и интересы (свои и детей), становятся угрозой для воплощения государственных идей, представлений об общих социальных интересах.
Второй причиной, препятствующей вовлечению родителей в школьное образование, является приоритетность прав детей над правами родителей. Конвенция о правах детей трактуется европейскими политиками как документ, фиксирующий различие между правами детей и взглядами родителей на образование своих детей. Родители в этом ключе рассматриваются как некомпетентные в вопросах образования, представляющие потенциальную угрозу интересам и потребностям ребенка. Государство, рассматривая детей как самостоятельных субъектов общественных отношений, выступает защитником их прав и интересов, исключая из данного процесса родителей как посредников.
Третьей причиной, затрудняющей участие европейских родителей в школьном образовании, выступает гипертрофи-рованность идеи научно обоснованного профессионализма. Ее суть сводится к тому, что даже хорошо информированные и разумные родители не имеют права влиять на образование своих детей (в том числе посредством участия в управлении школой), поскольку они не компетентны, у них нет доступа к базе профессиональных знаний учителей [30]. И здесь мы выходим на аспекты взаимоотношений родителей и педагогов [38; 39]. В общем формальном плане характер отношений европейских учителей с родителями строится на нейтральной основе избегания конфликтов [40-42]. Как показало исследование немецких ученых, наиболее благоприятно складываются отношения педагогов с высокообразованными родителями, чем с низкообразованными, поскольку высокообразованные родители воспринимаются учителями как равные, имеющие культурные компетенции выстраивания продуктивного диалога (умеющие договариваться) [31]. Вместе с тем шведские исследователи подчеркивают экспертность и несколько пренебрежительное отношение педагогов к родителям [6; 43]. Изучая учительский образ идеального родителя, ученые пришли к выводу, что педагоги ожидают от хороших родителей выполнения лишь двух функций: 1) информирования об особенностях детей для выстраивания образовательной траектории ребенка и 2) материальной помощи в обеспечении образовательного процесса [44].
Особую обеспокоенность ученых вызывает негативная риторика педагогов в адрес детей с различными заболеваниями (а точнее их родителей, которые эти диагнозы стремятся зафиксировать) [18; 27; 45]. Их беспокойство обусловлено тем, что некоторые учителя, считающие себя превосходными знатоками инвалидности и болезней, высмеивают родителей как «слабоумных преступников» в публичном пространстве (социальных сетях, газетах и т. д.) [46]. Такие педагоги утверждают, что определенных видов инвалидности не существует или что родители преувеличивают симптомы заболеваний у своих детей для получения определенных преференций [46]. Исследователи видят в качестве причины такого поведения педагогов ухудшение условий их труда. Недостаточное финансирование школьного образования, увеличение рабочей нагрузки негативно влияют на самочувствие учителей. Вместе с тем ученые подчеркивают, что неблагоприятные условия труда не должны влечь за собой неэтичное профессиональное поведение педагогов.
Конечно, нельзя говорить об отсутствии в европейском пространстве взаимодействия родителей и школы вообще. В каждой стране имеется перечень программ и мероприятий, направленных на школьное сопровождение родителей. Эта работа ведется в двух направлениях: формирование родительских компетенций у всех родителей и работа школы с родителями из группы риска (бедными, мигрантами, религиозными меньшинствами, родителями, чьи дети отказываются посещать школу) [47–49]. В качестве примера деятельности школы по формированию родительских компетенций приведем результаты европейского сравнительного исследования поддержки психического здоровья учащихся [50]. В онлайн-опросе в 2014 г. приняли участие 1 466 школ из 10 стран (Франции, Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши, Сербии, Испании, Швеции, Великобритании и Украины). Исследование показало, что школы в основном осуществляют информационное сопровождение родителей. Лишь пятая часть школ, помимо информации, предоставляет родителям консультации и поддержку. В большей мере данная работа осуществляется в Германии (около 3,0 баллов по четырехбалльной шкале). В Швеции эта деятельность школы была оценена в 2,5 балла. Наименьшую поддержку родителям в обеспечении психического здоровья учащихся оказывают в школах Франции (0,5 баллов). Важно обратить внимание на более интенсивную поддержку родителей учащихся начальной школы, чем средней.
Участие европейских родителей во внешкольной жизни детей также во многом обусловлено институциональными особенностями системы образования (временем, проводимым ребенком в школе, наличием в школе кружков и секций, наличием домашнего задания, уровнем отслеживания образовательных результатов и др.). Общей тенденцией поведения, характерной для современных европейских родителей, является увеличение времени, затрачиваемого ими на детей.
Ограниченные возможности школьных внеклассных занятий во второй половине дня во французских и немецких школах обуславливают включение родителей и детей в организации и ассоциации, предлагающие групповые мероприятия для местных жителей (помощь в выполнении домашнего задания, занятия спортом, экскурсии, дебаты, проведение праздников и др.) [51; 52]. Ученые подчеркивают, что такие связи родителей с сообществом позитивно влияют не только на результаты обучения их детей, но и позволяют родителям преодолевать различия в статусных группах, укреплять солидарность, межпоколенческие связи и автономию жителей.
Большая часть дополнительных мероприятий в Швеции организуется школами [53]. Вне школы организованные мероприятия часто проводятся добровольными ассоциациями бесплатно или за небольшую плату, хотя существуют и коммерческие организации. Внеклассные занятия – важная часть повседневной шведской семейной жизни, в обязательном порядке согласованной с ребенком. Наиболее распространенные виды деятельности связаны с физической активностью.
Ключевым мотивом вовлечения родителями детей в организованные мероприятия, по результатам исследования шведских ученых, является реализация потенциала детей и расширение их будущих возможностей посредством развития социальных навыков и здоровья [53].
Родители среднего класса придают внеклассным занятиям больше важности, чем родители из рабочего класса. Необходимо отметить, что шведские родители нередко отказывают ребенку в посещении внеклассных занятий не потому, что у них нет денег оплатить данные услуги, а потому, что у них нет времени для сопровождения детей. При этом никто из детей опрошенных родителей из рабочего класса не занимался дорогими видами спорта, такими как хоккей, теннис или верховая езда.
Говоря о различиях в стратегиях поведения родителей вне школы, хотелось бы обратить внимание на сосредоточенности немецких родителей на образовательных достижениях их детей. Стимулируемые необходимостью раннего выбора образовательного трека, они достаточно много времени посвящают формированию образовательной мотивации у детей, помощи им в выполнении домашнего задания и подготовки к тестам, поиску и найму частных репетиторов [33]. Особенно данная стратегия присуща высокообразованным родителям.
Страны Северной и Западной Европы традиционно имеют сравнительно низкие показатели репетиторства, но данные последних лет говорят о растущем спросе на этот вид образовательных услуг. Этот спрос на частные уроки, по мнению исследователей, является неявной критикой качества обучения в школе [54; 55]. Важно отметить, что исследователи подчеркивают влияние родителей как заказчиков услуг частных репетиторов на усиление неравенства в образовании [54; 55]20.
Обсуждение и заключение
Проведенный анализ институциональных возможностей и практик деятельности европейских родителей по реализации детско-родительских потребностей и интересов в сфере школьного образования позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, несмотря на единое европейское пространство, в каждой из анализируемых стран имеется особая исторически сложившаяся система школьного образования, в которой родителям отводится своя роль: во Франции и Германии родители включены в перечень субъектов образования, а в Швеции – нет.
Во-вторых, несмотря на нормативные различия в субъектности родителей в системе школьного образования в данных странах, практика реализации прав сконцентрирована больше на осуществлении прав ребенка, чем прав родителей.
В-третьих, модель взаимодействия органов власти с родителями строится в большей мере на обеспечении принципа равенства доступа к образованию (а не принципа свободы выбора).
В-четвертых, политика, реализуемая государственной и региональной властью, нацелена на помощь родителям (прежде всего информационной, консультативной) в выполнении их родительских функций. Она ориентирована не просто на обучение родителей родительским навыкам, а на воспитание политкорректных родителей.
В-пятых, вторичность прав родите -лей по отношению к правам детей, с одной стороны, и высокий уровень доверия к власти и законопослушность европейских родителей, с другой, снижают необходимость и возможности защиты европейскими родителями потребностей, интересов (своих и детей) в сфере школьного образования.
Проведенный анализ европейского опыта показал, что институциональные возможности участия российских родителей в системе школьного образования не только не уступают западным образцам, а в каких-то аспектах даже превосходят их. В российском законодательстве заложены институциональные ресурсы для реализации социальной общностью родителей функций субъекта гражданского общества. Российские родители, согласно действующему Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» являются участниками системы отношений в сфере образования21, получают ряд правовых, организационных, экономических гарантий. Они обладают правом выбора формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, языка образования и др. Кроме того российские родители имеют законные основания получать информационную поддержку и психолого-медико-педагогическую помощь, участвовать в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность и защищать права и интересы как свои родительские, так и своих обучающихся детей22.
Несмотря на различия институционального ландшафта гражданской деятельности в разных странах как в целом, так и в сфере школьного образования, у родителей европейских стран и России существуют схожие проблемы в реализации детско-родительских потребностей и интересов в сфере школьного образования. Это дает основания говорить о возможности органичной адаптации, переноса на российскую почву некоторых конструктивных зарубежных практик деятельности родителей в качестве субъекта гражданского общества, тем более, что их использование допускается российским законодательством.
Полагаем, российские родители могут активнее использовать как минимум две европейские практики реализации и защиты детско-родительских прав и интересов в сфере школьного образования. Первая позитивная практика - коллективные формы защиты детско-родительских прав и интересов. Эта практика особенно актуальна при ограниченности родительских ресурсов.
Вторая позитивная практика - консолидация родительских усилий по реализации детско-родительских прав и интересов с местным сообществом. Благодаря этому появится возможность включаться родителям и детям в групповые практики, мероприятия для местных жителей. Такая взаимосвязь родителей и детей с местным сообществом позволит не только решать детско-родительские проблемы в сфере образования, но и даст возможность родителям и детям преодолевать различия в статусных группах, укреплять солидарность, межпоколенческие связи.
Научная значимость работы состоит в приращении социального знания о тенденциях развития, особенностях, проблемах гражданского общества в современном контексте. Полученные результаты вносят вклад в развитие концепции социальной общности родителей как субъекта гражданского общества и позволяют говорить о потенциале превращения российского родительства в его нового актора.
Статья представляет интерес для исследователей общественных наук, изучающих перспективы развития гражданского общества в России и проблемы интеграции родителей в него; образовательного менеджмента, занимающегося разработкой программ взаимодействия родительского сообщества со школой и органами власти; гражданских активистов.
Перспективным видится аналогичное исследование деятельности американских родителей как социальной общности страны, в которой на протяжении длительного времени формировался сложный и противоречивый опыт реализации принципов гражданского общества.
Список литературы Родители в системе школьного образования в Европе
- Chernyshov A.G. Parents as Citizens. Vlast' (The Authority). 2019;27(1):47-54. doi: https://doi. org/10.31171/vlast.v27i1.6197
- Shabrova N.V. The Social Community of Parents as a Part of Civil Society. Vestnik instituta sotsiologii. 2020;11(1):184-207. doi: https://doi.org/10.19181/vis.2020.1U.635
- Maiofis M., Kukulin I. [New Parenthood and Its Political Aspects]. Pro et Contra. 2010;(1):6-19. Available at: https://carnegieendowment.org/files/ProEtContra_48_6-19.pdf (accessed 20.12.2021). (In Russ.)
- Chernova Zh.V. Parents Communities: New Forms of Solidarity and Resources for Mobilization. Woman in Russian Society. 2012;(3):36-51. Available at: https://womaninrussiansociety.ru/article/chernova-zh-v-parents-communities-new-forms-of-solidarity-and-resources-for-mobilization-pp-36-51 (accessed 20.12.2021).
- Shpakovskaja L.L. [Discursive Practices of Parenthood: Political Challenges and Actual Problems]. Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2013;(1):236-248. Available at: http:// journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=908&article_id=1801 (accessed 20.01.2022). (In Russ.)
- Dodillet S., Christensen D.S. Parents, a Swedish Problem: On the Marginalisation of Democratic Parental Involvement in Swedish School Policy. Comparative Education. 2020;56(3):379-393. doi: https://doi.org/10.10 80/03050068.2020.1724489
- Flanagan C.A., Bowes J.M., Jonsson B., Csapo B., Sheblanova E. Ties that Bind: Correlates of Adolescents' Civic Commitments in Seven Countries. Journal of Social Issues. 1998;54(3):457-475. doi: https://doi. org/10.1111/0022-4537.771998077
- Fletcher A.C., Glen H., Elder Jr., Mekos D. Parental Influences on Adolescent Involvement in Community Activities. Journal of Research on Adolescence. 2000;10(1):29-48. Available at: https://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1207/SJRA1001_2 (accessed 20.12.2021).
- McIntosh H., Hart D., Youniss J. The Influence of Family Political Discussion on Youth Civic Development: Which Parent Qualities Matter? Political Science & Politics. 2007;40(3):495-499. doi: https://doi. org/10.1017/S1049096507070758
- Bebiroglu N., Geldhof G.J., Pinderhughes E.E., Phelps E., Lerner R.M. From Family to Society: The Role of Perceived Parenting Behaviors in Promoting Youth Civic Engagement. Parenting: Science and Practice. 2013;13(3):153-168. doi: https://doi.org/10.1080/15295192.2013.756352
- Youniss J., Bales S., Christmas-Best V., Diversi M., McLaughlin M., Silbereisen R. Youth Civic Engagement in the Twenty-First Century. Journal of Research on Adolescence. 2002;12(1):121-148. doi: https://doi. org/10.1111/1532-7795.00027
- Bronfenbrenner U. Ecology of the Family as a Context for Human Development: Research Perspectives. Developmental Psychology. 1986;22(6):723-742. doi: https://doi.org/10.1037/0012-1649.22.6723
- Zaff J.F., Malanchuk O., Eccles J.S. Predicting Positive Citizenship from Adolescence to Young Adulthood: "The Effects of a Civic Context". Applied Developmental Science. 2008;12(1):38-53. doi: https://doi. org/10.1080/10888690801910567
- Lerner R., Johnson S.K., Wang J., Ferris K.A., Hershberg R.M. The Study of the Development of Civic Engagement Within Contemporary Developmental Science: Theory, Method, and Application. Research in Human Development. 2015;12(1-2):149-156. doi: https://doi.org/10.1080/15427609.2015.1013759
- Elder L., Greene S. The Politics of Parenthood: Parenthood Effects on Issue Attitudes and Candidate Evaluations in 2008. American Politics Research. 2012;40(3):419-449. doi: https://doi. org/10.1177/1532673X11400015
- Janoski T., Wilson J. Pathways to Voluntarism: Family Socialization and Status Transmission Models. Social Forces. 1995;74(1):271-292. doi: https://doi.org/10.1093/sf/74.1.271
- Mersianova I.B., Malakhov D.I., Ivanova N.V. The Role of Family as a Channel of Intergenerational Transmission of Volunteer Traditions in Contemporary Russia. JournalofEconomicSociology. 2019;20(3):66-98. doi: https://doi.org/10.17323/1726-3247-2019-3-66-89
- Dauman N., Haza M., Erlandsson S. Liberating Parents from Guilt: A Grounded Theory Study of Parents' Internet Communities for the Recognition of ADHD. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. 2019;14(1):1564520. doi: https://doi.org/10.1080/17482631.2018.1564520
- Epstein J.L., Salinas K.C. Partnering with Families and Communities. Education Leadership. 2004;61(8):12-18. Available at: https://www.literacymn.org/sites/default/files/partnering_with_families_and_ communities_-_epstein.pdf (accessed 15.01.2021).
- Posey-Maddox L., Haley-Lock A. One Size Does Not Fit All: Understanding Parent Engagement in the Contexts of Work, Family, and Public Schooling. Urban Education. 2020;55(5):671-698. doi: https://doi. org/10.1177/0042085916660348
- Vlasova T.A., Makarova M.N. How Are Parents Included in Intra-School Forms of Interaction? The Journal of Sociology and Social Anthropology. 2016;19(2):74-87. Available at: http://jourssa.ru/sites/all/files/ volumes/2016_2/Vlasova_Makarova_2016_2.pdf (accessed 15.12.2021).
- Lareau A., Muñoz V.L. "You're Not Going to Call the Shots": Structural Conflicts between the Principal and the PTO at a Suburban Public Elementary School. Sociology of Education. 2012;85(3):201-218. doi: https:// doi.org/10.1177/0038040711435855
- Murray B., Domina T., Renzulli L., Boylan R. Civil Society Goes to School: Parent-Teacher Associations and the Equality of Educational Opportunity. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences. 2019;5(3):41-63. doi: https://doi.org/10.7758/RSF.2019.5.3.03
- Shimutina E.N., Ivanov I.Yu. A Research on Parent Involvement in Educational Process in the Context of Improving the Efficiency of Education Management. MCU Journal ofEconomic Studies. 2017;(4):8-20. Available at: https://economics.mgpu.ru/2021/08/31/issledovanie-vovlecheniya-roditelej-v-obrazovatelnyj-proczess-v-kontekste-povysheniya-effektivnosti-upravleniya-obrazovaniem (accessed 20.12.2021).
- Trumberg A., Urban S. School Choice and Its Long-Term Impact on Social Mobility in Sweden. Scandinavian Journal of Educational Research. 2021;65(4):569-583. doi: https://doi.org/10.1080/00313831.2020. 1739129
- Ahmed A., Hammarstedt M., Karlsson K. Do Schools Discriminate Against Children with Disabilities? A Field Experiment in Sweden. Education Economics. 2021;29(1):3-16. doi: https://doi.org/10.1080/09645292. 2020.1855417
- Tah J.K. Shopping for Schools: Parents of Students with Disabilities in the Education Marketplace in Stockholm. European Journal of Special Needs Education. 2020;35(4):497-512. doi: https://doi.org/10.1080/08 856257.2019.1708641
- Benson M., Bridge G., Wilson D. School Choice in London, and Paris - A Comparison of Middle-Class Strategies. Social Policy & Administration. 2015;49(1):24-43. doi: https://doi.org/10.1111/spol.12079
- Kosunen S., Rivière C. Alone or Together in the Neighbourhood? School Choice and Families' Access to Local Social Networks. Children's Geographies. 2018;16(2):143-155. doi: https://doi.org/10.1080/14733285 .2017.1334114
- Pozas M., Letzel V., Schneider C. 'Homeschooling in Times of Corona': Exploring Mexican and German Primary School Students' and Parents' Chances and Challenges during Homeschooling. European Journal of Special Needs Education. 2021;36(1):35-50. doi: https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1874152
- Dumont H., Denise Klinge D., Maaz K. The Many (Subtle) Ways Parents Game the System: Mixed-Method Evidence on the Transition into Secondary-School Tracks in Germany. Sociology of Education. 2019;92(2):199-228. doi: https://doi.org/10.1177/0038040719838223
- Ramos Lobato I., Groos T. Choice as a Duty? The Abolition of Primary School Catchment Areas in North Rhine-Westphalia/Germany and Its Impact on Parent Choice Strategies. Urban Studies. 2019;56(15):3274-3291. doi: https://doi.org/10.1177/0042098018814456
- Stephany F. It Deepens Like a Coastal Shelf: Educational Mobility and Social Capital in Germany. Social Indicators Research. 2019;142:855-885. doi: https://doi.org/10.1007/s11205-018-1937-9
- Weck S., Hanhorster H. Seeking Urbanity or Seeking Diversity? Middle-Class Family Households in a Mixed Neighbourhood in Germany. Journal of Housing and the Built Environment. 2015;30(3):471-486. Available at: http://www.jstor.org/stable/43907342 (accessed 14.12.2021).
- Kruse H. Between-School Ability Tracking and Ethnic Segregation in Secondary Schooling. Social Forces. 2019;98(1):119-146. doi: https://doi.org/10.1093/sf/soy099
- Geven S., van de Werfhorst H.G. The Role of Intergenerational Networks in Students' School Performance in Two Differentiated Educational Systems: A Comparison of between- and Within-Individual Estimates. Sociology of Education. 2020;93(1):40-64. doi: https://doi.org/10.1177/0038040719882309
- Gu L. Using School Websites for Home-School Communication and Parental Involvement? Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 2017;3(2):133-143. doi: https://doi.org/10.1080/20020317. 2017.1338498
- Kurucz C., Lehrl S., Anders Y. Preschool Teachers' Perspectives about the Engagement of Immigrant and Non-Immigrant Parents in Their Children's Early Education. International Journal of Early Childhood. 2020;52:213-231. doi: https://doi.org/10.1007/s13158-020-00269-1
- Barg K. Educational Choice and Cultural Capital: Examining Social Stratification within an Institutionalized Dialogue between Family and School. Sociology. 2015;49(6):1113-1132. doi: https://doi. org/10.1177/0038038514562854
- Martin R, Benoit J.P., Moro M.R., Benoit L. School Refusal or Truancy? A Qualitative Study of Misconceptions among School Personnel about Absenteeism of Children from Immigrant Families. Frontiers in Psychiatry. 2020;11:202. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00202
- Aelenei C., Darnon C., Martinot D. When School and Family Convey Different Cultural Messages: The Experience of Turkish Minority Group Members in France. PsychologicaBelgica. 2016;56(2):111-117. Available at: https://psychologicabelgica.com/articles/10.5334/pb.283 (accessed 14.12.2021).
- Barg K. The Influence of Students' Social Background and Parental Involvement on Teachers' School Track Choices: Reasons and Consequences. European Sociological Review. 2013;29(3):565-579. doi: https://doi. org/10.1093/esr/jcr104
- Sayers J., Marschall G., Petersson J., Andrews P. English and Swedish Teachers' Perspectives on the Role of Parents in Year One Children's Learning of Number: Manifestations of Culturally-Conditioned Norms. Early Child Development and Care. 2021;191(5):760-772. doi: https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1646741
- Widding G., Berge B.-M. Teachers' and Parents' Experiences of Using Parents as Resources in Swedish Primary Education. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences: 5th World Conference on Educational Sciences. 2014. p. 1587-1593. doi: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.439
- Barow T., Ostlund D. Stuck in Failure: Comparing Special Education Needs Assessment Policies and Practices in Sweden and Germany. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. 2020;6(1):37-46. doi: https:// doi.org/10.1080/20020317.2020.1729521
- Gillberg C., Pettersson A. Between Duty and Right: Disabled Schoolchildren and Teachers' Ableist Manifestations in Sweden. Disability & Society. 2019;34(9-10):1668-1673. doi: https://doi.org/10.1080/09687599. 2019.1630592
- Waldring I. Practices of Change in the Education Sector: Professionals Dealing with Ethnic School Segregation. Ethnic and Racial Studies. 2017;40(2):247-263. doi: https://doi.org/10.1080/01419870.2017. 1245434
- Join-Lambert H. Parental Involvement and Multi-Agency Support Services for High-Need Families in France. Social Policy and Society. 2016;15(2):317-329. doi: https://doi.org/10.1017/S1474746415000706
- Widding U. Parental Determinism in the Swedish Strategy for Parenting Support. Social Policy & Society. 2018;17(3):481-490. doi: https://doi.org/10.1017/S1474746417000513
- Patalay P., Gondek D., Moltrecht B., Giese L., Curtin C., Stankovic M., Savka N. Mental Health Provision in Schools: Approaches and Interventions in 10 European Countries. Global Mental Health. 2017;4(E10). doi: https://doi.org/10.1017/gmh.2017.6
- Werum R.E., Davis T., Cheng S. How Institutional Context Alters Social Reproduction Dynamics: Ethnic Track Placement Patterns in the U.S. and Germany. Research in Social Stratification and Mobility. 2011;29(4):371-391. doi: https://doi.org/10.1016/j.rssm.2011.04.002
- Vollebergh A. Circuiting Parents' Voice: Parenting Discussion Groups and Institutional Healing in Northeast Paris. Ethnography. 2022;23(3):382-403. doi: https://doi.org/10.1177/1466138119897085
- Sjodin D., Roman C. Family Practices among Swedish Parents: Extracurricular Activities and Social Class. European Societies. 2018;20(5):764-784. doi: https://doi.org/10.1080/14616696.2018.1473622
- Guill K., Luedtke O., Schwanenberg J. A Two-Level Study of Predictors of Private Tutoring Attendance at the Beginning of Secondary Schooling in Germany: The Role of Individual Learning Support in the Classroom. British Educational Research Journal. 2020;46(2):437-457. doi: https://doi.org/10.1002/berj.3586
- Hallsen S., Karlsson M. Teacher or Friend? - Consumer Narratives on Private Supplementary Tutoring in Sweden as Policy Enactment. Journal of Education Policy. 2019;34(5):631-646. doi: https://doi.org/10.1080/ 02680939.2018.1458995