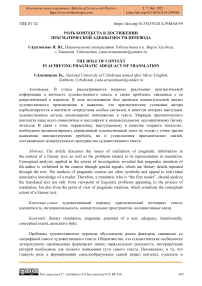Роль контекста в достижении прагматической адекватности перевода
Автор: Арустамян Яна Юрьевна
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.7, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются вопросы реализации прагматической информации в контексте художественного текста, а также проблемы, связанные с ее репрезентацией в переводе. В ходе исследования был проведен концептуальный анализ художественного произведения и выявлено, что прагматические установки автора вербализируются в контексте посредством особых сигналов, в качестве которых выступают художественные детали, неоднократно повторяемые в тексте. Маркеры прагматического контекста чаще всего символичны и апеллируют к индивидуальному ассоциативному багажу читателя. В связи с этим, переводчику, выступающему в качестве «первого читателя», необходимо проанализировать переводимый художественный текст не только с точки зрения выявления лингвистических проблем, но и установления прагматических связей, составляющих концептуальное пространство художественного текста.
Художественный перевод, прагматический потенциал текста, адекватность, интенциональность, концептуальное пространство, ассоциативные связи
Короткий адрес: https://sciup.org/14120959
IDR: 14120959 | УДК: 81’42 | DOI: 10.33619/2414-2948/65/59
Текст научной статьи Роль контекста в достижении прагматической адекватности перевода
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 81’42
Проблемы художественного перевода обусловлены рядом факторов, связанных со спецификой самого художественного текста. Общеизвестно, что стилистические особенности литературного произведения формируют некую параллельную реальность, интерпретация которой необходима для полного понимания сути самого текста. Несомненно, и то, что главную роль в формировании смыслообразующих связей играет контекст, сущность и функции которого в настоящее время все еще анализируется как лингвистами, так и литературоведами, которые так и не пришли к единому мнению и предлагают различные трактовки, классификации и типы контекста применительно к художественному тексту и, в частности, художественному переводу. В своем исследовании нам бы хотелось остановиться на одном из видов контекста, а именно прагматическом контексте, с тем, чтобы попытаться установить его возможные ресурсы при интерпретации отдельных деталей и границ распространения контекста в процессе перевода отдельных предложений составляющих общую структуру произведения.
Исследователи текста сходятся во мнении, что прагматическое значение — важная часть смысла слова или фразы, оказывающая определенное воздействие на реципиента. Каждое произведение создается для читателя с целью не только рассказать сюжет, но и произвести на него определенное воздействие. В этом отношении «любое общение — это упражнение в прагматике» [1]. Семантически эквивалентные сообщения не обязательно означают одно и то же для реципиентов оригинала и перевода, поэтому прагматика исходного художественного текста иногда требует важных изменений в передаваемом сообщении. «Переводчик должен знать, является ли сообщение констатацией факта, просьбой, командой, мольбой или шуткой. Очень часто коммуникативное намерение отправителя отличается от того, что, как кажется, говорится в сообщении. Например, фраза, I don’t know, может быть переведена как «Я не знаю» (констатация факта) или «Да как вам сказать?» (выражение нерешительности)» [2, c. 129]. Прагматическая адаптация перевода должна позволить целевому рецептору понять значение сообщения и осознать его переносное и ситуативное значение. Английский ученый Б. Хатим описывает прагматику с точки зрения ситуативности, преднамеренности и приемлемости [3, c. 11]. Таким образом, можно сказать, что прагматический подход применяет эти три важные особенности в художественном переводе. Ситуативность относится к уместному использованию утверждения в конкретной ситуации. Без контекстной ситуации высказывание невозможно интерпретировать. Понимание достигается путем ассоциации и соединения новой информации, вербализованной в тексте, со знанием мира или конкретной ситуации.
В свое время Ю. Найда отмечал, что прежний фокус в переводоведении, направленный на сохранение и передачу формы сообщения, включая стилистические особенности самого текста, был смещен в сторону анализа восприятия сообщения реципиентом [4]. Иными словами, ученые-переводоведы пришли к пониманию, которое является ключевым в прагматике: важно не столько что сказать, сколько как сказать. Соответственно, анализ языковых явлений, реализуемых в контексте принадлежит сфере лингвистической прагматики [5]. Более того, прагматика текста является одним из главных параметров текста. [6, c. 60].
Исследование художественного текста с позиции прагматического аспекта коммуникации позволяет выявить в нем многослойную коммуникативную структуру, что отражает сложную систему отношений между писателем и читателем, опосредованную, как правило, персонажем: адресант-писатель (адресант-персонаж адресат-персонаж) адресат-читатель. В сфере литературной коммуникации представляется возможным выделить соответственно следующие типы адресата: массовый читатель, интерпретатор-исследователь или критик, который выступает в этом случае и как реципиент, но владеющий техникой анализа (так называемый «автоэксперимент»), и, наконец, персонаж литературного произведения [5, c. 5–6].
По словам Д. У. Ашуровой, автор художественного текста сознательно вовлекает читателя в свою творческую деятельность, предвидя его способность к творческому мышлению, что является одной из прагматических установок автора. Соответственно, одним из критериев прагматической установки художественного текста является так называемое соавторство с читателем, т. к. художественные тексты, характеризующиеся образностью, вызывают поток ассоциаций и мыслей в сознании адресата, что помогает ему раскрыть имплицитное семантическое содержание и смысл автора [6, c. 80–81]. Мы полностью соглашаемся с данным определением и считаем, что авторская интенция оформляется в виде замысла — содержательно-смыслового образования, сложившегося на основе творческого осмысления того фрагмента действительности, который и является предметом сообщения.
Понятие «интенция» ( лат. «намерение, замысел» ) означает коммуникативное намерение говорящего. Интенция, как правило, эксплицитно не выражается в текстах. Интенция определяет и организует содержательный материал текста. Авторская интенция зависит и от личностного содержания автора. Любое сообщение содержит не только информацию, но и выражает отношение автора к сообщаемому [7]. Под прагматической интенциональностью мы, вслед за В. Л. Наером, будем понимать вербализованное в тексте намерение автора оказать влияние на реципиента с целью воссоздания его картины мира [8, с. 10]. Исходя из наиболее общего понимания интенции как «установки на смысл будущего высказывания» или как «своеобразного сплава потребности, мотива и цели» [9, с. 53], устанавливаются структурные различия интенций, которые управляют речеобразованием в той или иной сфере. В конкретной ситуации общения значимые звенья выстраиваются в последовательность, а интенция звена вступает во взаимосвязь с другими, образуя интенциональность. Интенция, будучи системным объектом, может рассматриваться в свою очередь частью системы более высокого порядка — интенциональности коммуникации той или иной сферы, звеном в сложной иерархии интенций [10]. Иными словами, можно отметить, что, создавая литературный текст, автор использует методы селекции и комбинации стилистических средств, отбирая конкретные характеристики и лексический материал. Слова, использованные при описании, становятся индикатором авторской интенции [11, с. 178]. В процессе анализа мы будем опираться на понимание текста как целостной коммуникативной единицы, характеризующейся сложной семантической и формально-грамматической организацией своих компонентов, которые, вступая в границах текста в особые системные отношения, приобретают качественно новый, интенционально обусловленный стилистический и прагматический эффект.
В качестве примера разберем небольшой рассказ К. Воннегута «Long walk to forever» [12] и два варианта его перевода, выполненными Р. Райт-Ковалевой [13] и Г. Анашкиным [14]. Сюжет этой истории очень прост — парень уходит в самоволку, чтобы встретиться с любимой девушкой за неделю до ее свадьбы с другим. Приехав к ее дому, он приглашает ее прогуляться и признается в чувствах, которые он испытывал к ней всей эти годы. Для девушки — это откровение, ведь они никогда прежде не говорили о чем-то больше, кроме дружбы. Текст выстроен в форме обрывочного диалога, что играет немаловажную роль в репрезентации ситуативного контекста — эмоции, нахлынувшие на героев, не позволяют выстраивать сложные и законченные предложения. В данном рассказе можно отметить несколько художественных деталей, которые символичны в отношении раскрытия прагматического контекста. Первая и главная деталь в композиционном построении текста — колоколенка рядом со школой для слепых, которая пять раз упоминается в тексте:
They had grown up next door to each other, on the fringe of a city, near fields and woods and orchards, within sight of a lovely bell tower that belonged to a school for the blind.
Bells rang in the tower of the school for the blind nearby.
-
— “School for the blind”, said Newt.
-
— “School for the blind”, said Catharine. She shook her head in drowsy wonder.
The shadows of the apple trees grew to the east. The bells in the tower of the school for the blind rang again [12].
Примечательно, что упоминание колокольни происходит в самом начале текста и в самом конце, а также периодически «сопровождает» героев на протяжении прогулки, что также может вызвать ассоциацию с названием произведением Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол» и подтолкнуть читателя задаться этим вопросом. С другой стороны, звон колоколов обычно сопровождает свадебную церемонию, соответственно, вызывает совершенно противоположные эмоции. Необходимо еще раз отметить, что колокольня расположена рядом со школой для слепых, таким образом, можно предположить, что автор вводит в текст метафорический смыл « любовь слепа », который позже подкрепляется еще одним многократно повторяемым символом « rosy »:
“ If we go for a walk”, he said, “it will make you rosy. It will make you a rosy bride”. He turned the pages of the magazine. “A rosy bride like her — like her – like her”, he said, showing her rosy brides.
Catharine turned rosy, thinking about rosy brides.
“That will be my present to Henry Stewart Chasens”, said Newt. “By taking you for a walk, I’ll be giving him a rosy bride” [12].
Символизм розового цвета вызывает достаточно устойчивые ассоциации и связан с различными социальными и культурными кодами:
в религии:
В католицизме цвет радости и счастья. Используется во время Великого поста, на третье воскресенье Адвента. Традиционно этому дню соответствует розовая свеча в рождественском венке.
в политике:
–Розовый цвет (как менее яркий и резкий, чем красный) ассоциируется с умеренными левыми, социал-демократическими силами; так, он является неофициальным цветом португальской Социалистической партии.
–В разное время слово «розовый» использовалось как уничижительный эпитет: «розовый социализм», «розовое христианство».
культурные ассоциации
–Розовый — цвет античной богини Венеры (Афродиты).
–В русском символизме розовый цвет — это цвет мечты, цвет надежды.
–Розовый цвет в поэзии может ассоциироваться с нежностью, романтикой, реже — с жизненной силой и молодостью.
–Розовый цвет одежды стереотипно воспринимается как женский [15].
Иными словами, розовый , в силу того, что он неяркий оттенок красного, в большинстве случаев ассоциируется с мягкостью, нежностью, нерешительностью. Это — полутон, лишенный силы и экспрессии.
Более того, устойчивые сочетания «rose-colored glasses» и «розовые очки» имеют идентичную ассоциацию «наивность», «недальновидность» в обоих языках. Следовательно, здесь можно также говорить о приемлемости введения данного символа в текст перевода, т. к. он соотносится с одинаковыми структурами восприятия в двух лингвокультурах. Именно эта ассоциация, в сочетании с прилагательным «blind» составляет прагматическую характеристику данных персонажей — парень, сбежавший из армии, ослепленный своей любовью и девушка, «в розовых очках», не замечавшая его чувств на протяжении стольких лет.
Вернемся к нашему примеру и попробуем посмотреть насколько полно данный символ нашел отражение в переводе:
“ If we go for a walk”, he said, “it will make you rosy. It will make you a rosy bride”. He turned the pages of the magazine. “A rosy bride like her — like her — like her”, he said, showing her rosy brides.
Catharine turned rosy, thinking about rosy brides.
“That will be my present to Henry Stewart Chasens”, said Newt. “By taking you for a walk, I’ll be giving him a rosy bride” [12].
Р. Райт-Ковалева Г. Анашкин
«А мы погуляем, — сказал Ньют, — и ты вся разрумянишься». Будешь румяной невестой.
-
- Он перелистал журнал:
— Вот такой розовенькой, как эта, и эта, и эта. - И он показал ей розовых невест на картинках. Catharine turned rosy, thinking about rosy brides — Это будет мой подарок Генри Стюарту Чэзенсу, — сказал Ньют. — Вот поведу тебя гулять и приведу ему обратно розовую невесту [13].
«Если мы пойдем погуляем, — сказал он, — ты разрумянишься». Будешь румяной невестой.
-
- Он перевернул страницы журнала. — Румяной невестой как она — как она — как она, — сказал он, показывая ей румяных невест.
Катарина зарумянилась, подумав о румяных невестах.
— Это будет мой подарок Генри Стюарту Чезенсу, — сказал Ньют. — Взяв тебя на прогулку, я верну ему румяную невесту [14].
Как мы видим, Г. Анашкин сделал выбор в пользу лексемы « румяный », которая с точки зрения лексикографического соответствия вполне может быть приравнена к слову « розовый »: « румяный » = « розовощекий ». Однако, с точки зрения прагматического потенциала, слово « румяный » не вызывает прямую ассоциацию с фразеологической единицей « розовые очки » — скорее, у читателя появляется впечатление « пышущий здоровьем », что не было заложено прагматической установкой автора и, следовательно, нарушает прагматическую эквивалентность в переводе. В варианте Р. Райт-Ковалевой « розовый » цвет вербализируется, однако здесь мы видим, что переводчик опустила одно предложение, возможно не посчитав его прагматически значимым и желая избежать нежелательного повтора данной лексемы: « Catharine turned rosy, thinking about rosy brides ». Тем не менее, как мы установили, лексема « rosy » в данном отрывке является не только смыслообразующей, но и несет прагматическую нагрузку, следовательно, столь многократный повтор здесь не случаен. Более того, далее в контексте привлекает внимание еще одно предложение, которое дополняет полноту картины и репрезентирует прагматический потенциал текста:
“ Yes, she said. She faced him, looked up at him, her face quite red. You would have known”, she said [12].
— Да, — сказала она. Повернувшись к нему, она посмотрела ему в глаза, лицо ее вспыхнуло румянцем. — Ты бы сам понял, — добавила она [13].
— Да, — сказала она. Повернулась, поглядела на него. Лицо красное. — Ты бы увидел, — сказала она [14].
В оригинале мы видим, что автор сигнализирует смену настроения и проявившуюся решительность героини, сменив нежный и нерешительный « розовый » на яркий и агрессивный « красный ». В переводе Р. Райт-Ковалевой, однако, все тот же румянец, а, следовательно, все та же нерешимость и застенчивость. Г. Анашкин же дает более адекватный перевод с точки зрения прагматической адекватности.
Еще одна прагматическая установка автора заложена в самом названии произведения. Общеизвестно, что заглавие несет в себе самую главную прагматическую установку: «Вобрав в свой незначительный объем весь художественный мир, заглавие обладает колоссальной энергией туго свернутой пружины. Раскрытие этой свертки, использование всей этой энергии носит сугубо индивидуальный характер, и начинается оно с ожидания знакомства с текстом, с формирования установки на чтение данного произведения, с периода, который условно можно назвать предтекстовым» [16, с. 92]. Таким образом, заголовок данного рассказа уже настроил читателя на определенное восприятие, связанное с прогулкой в будущее. Глагол « walk » подразумевает «движение вперед», что, в данном контексте, символизирует перспективы, которые в какие-то моменты радостны, безоблачны и полны жизни ( orchard, apple trees, humming bees ), а местами пугают своей неизвестностью ( infinite colonnade of the woods ). Автор проводит своих героев через светлый фруктовый сад к темному лесу, символизируя тем самым саму жизнь:
They were now in a large orchard.
“How did we get so far from home, Newt?” said Catharine.
“One foot in front of the other— through leaves, over bridges”, said Newt [12].
|
Р. Райт-Ковалева |
Г. Анашкин |
|
Они зашли в огромный фруктовый сад. — Как же мы оказались так далеко от дома, Ньют? — спросила Катарина. — Шаг за шагом, по лескам, по мосткам, — сказал Ньют [13]. |
Они были в большом саду. — Как мы ушли так далеко от дома, Ньют, — спросила Катарина. — Шаг за шагом — по листьям, через мосты, — сказал Ньют [14]. |
Тема будущего репрезентируется выражением « so far from home » и усиливается прилагательным « large » в сочетании с существительным « orchard » — фруктовый сад , что несомненно ассоциируется с достатком и благополучием. В связи с чем, необходимо отметить, что прагматическая адекватность варианта, предложенного Р. Райт-Ковалевой выше за счет уточнения «фруктовый».
Еще одни очень важный момент дополняет прагматическую целостность данной композиции — фамилия будущего жениха главной героини: Chasens . Если принять во внимание общий контекст произведения и сигналы, расставленные автором по всему тексту, можно отметить, что возможно выбор фамилии также не случаен. Основу фамилии составляет глагол « chase » — « преследовать, быть позади ». Таким образом, автор возможно намекает на место данного героя в этой истории: в то время как главные герои произведения идут вперед вместе, жених остается в прошлом. В обоих вариантах перевода фамилия этого персонажа была транскрибирована (Чэзенс / Чейзенс), следовательно, очень важная деталь в формировании целостного восприятия авторской интенции была упущена в переводе.
Подводя итоги, можно отметить следующее:
Интенциональность, или прагматическая установка автора, является неотъемлемой частью прагматического контекста художественного произведения. Авторская интенция всегда имплицитна и репрезентируется посредством комбинации не только стилистических средств, но и определенным подбором лексем, вызывающих ассоциации в сознании читателя. Следовательно, переводчику необходимо учитывать возможные сигналы, заложенные автором в тексте, с тем, чтобы адекватно репрезентировать скрытую информацию.
Основу прагматического контекста (в отличие от собственно лингвистического) в литературном произведении составляют художественные детали, которые, вступая в иерархическую связь с сюжетным полотном текста, репрезентируют скрытый смысл, который должен найти свое отражение в переводе путем тщательного подбора адекватных средств, восстанавливающих прагматический потенциал текста.
Прагматический контекст влияет не только на выбор лексических средств из возможного ряда стилистических синонимов, но и грамматических конструкций, в частности экспрессивные синтаксические построения, например, неполные предложения, дополняют эмоциональную насыщенность текста и, соответственно, также участвуют в достижении прагматической адекватности перевода.
Список литературы Роль контекста в достижении прагматической адекватности перевода
- Riazi A. The invisible in translation: The role of text structure // The Translation Journal. 2003. V. 7. №2. P. 1-8.
- Colenciuc I. Challenges of literary translation: pragmatic approach // Intertext. 2015. V. 34. №1-2. P. 128-132.
- Hatim B. Communication across cultures. Exeter: Exeter University Press, 1997.
- Nida E. A., Taber C. R. (ed.). The theory and practice of translation. Brill Archive, 1982. V. 8.
- Азнаурова Э. С. Прагматика художественного слова. Ташкент: Фан, 1988. 124 с.
- Ashurova D. U., Galiyeva M. R. Text linguistics. Tashkent: Tafakkur Qanoti, 2012.
- Трубаева Е. И., Колодяжная В. Н. Когнитивные основы интерпретации текста и дискурса. Белгород, 2018. 91 с.
- Наер В. Л. Прагматика научных текстов // Функциональные стили. Лингвометодические аспекты. М., 1985. С. 14-25.
- Колшанский Г. В. Проблемы коммуникативной лингвистики // Вопросы языкознания. 1979. №6. С. 51-62.
- Дускаева Л. Р., Цветова Н. С. Интенциональная стилистика: объект, предмет и базовые понятия // Жызнью и словом прысягаючи... 2012. С. 188-198.
- Поликарпова Е. В. Воплощение авторской интенции и отражение немецкого национального кода (на примере романа Михаэля Эбмайера Neuling) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2015. №2-2. С. 175-179.
- Vonnegut K., Harnetiaux B. P. Long walk to forever. Dramatic Publishing, 1989.
- Воннегут К. Долгая прогулка - навсегда. М.: Кристалл, 2001.
- Авдеенко И. А. Контекстные ассоциации и их интерпретация при описании семантики символа // Ученые записки КнАГТУ 2010. V. 2. №3. P. 67-73. https://doi.org/10.17084/2010.III-2(3).12