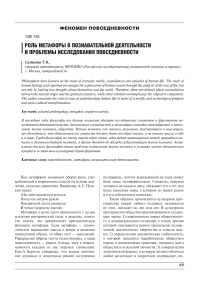Роль метафоры в познавательной деятельности и проблемы исследования повседневности
Автор: Сазбандян Т.В.
Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts
Рубрика: Феномен повседневности
Статья в выпуске: 3 т.3, 2009 года.
Бесплатный доступ
В последние годы философы все больше внимания уделяют исследованию элементов и фрагментов повседневной действительности, бесконечных случайностей и мельчайших эпизодов многообразной и многоликой жизни человека, общества. Изучая человека как живого, реального, чувствующего и мыслящего, мы убеждаемся, что объяснением его сущности должен быть его образ жизни, а не только мысли о себе и о мире. Среди философов по этому поводу идут споры: одни видят противоречия между природным началом и духовным бытием человека, а другие доводят до абсурда субъективацию жизни человека. Актуальной для всех философов стала проблема осмысления жизни человека в условиях научно-технического прогресса и социально-культурных трансформаций
Метафора, познавательная деятельность, повседневность
Короткий адрес: https://sciup.org/140209035
IDR: 140209035 | УДК: 165
Текст обзорной статьи Роль метафоры в познавательной деятельности и проблемы исследования повседневности
Под метафорой понимают оборот речи, употребляемый в переносном смысле на основе аналогии, сходства, сравнения. Например, А. С. Пушкин писал:
«На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой».
Метафора в речи часто применяется с целью усиления риторической силы и красоты, тонкости мысли, что предполагает прагматическую функцию метафоры. Если метафора — символическое выражение мысли о вещах и явлениях посредством образа, то образ этот — идеальный. Прекрасные образы почти недостижимы, а наша повседневность — рядом, близка, хотя в повседневности каждый из нас окружен символами. Еще А. Бергсон утверждал, что всякое понимание духовных и жизненных реалий интуитивно по природе, потому выражающий их язык может быть лишь метафорическим. Символы, окружая человека на каждом шагу, убеждают его в тех или иных качествах мира, в котором он живет, равно и в его собственных качествах.
Таким образом организуется культурное пространство вокруг любого человека, независимо от того, осознает он это или нет. В культурном пространстве общества просматриваются следующие черты: 1) определенная норма общественного и индивидуального сознания, с точки, зрения которой оценивается всякое проявление человеческой деятельности, творчества и смысла жизни; 2) определенная динамическая стабильность, в которой находятся выработанная обществом норма и повседневная практика, интересы всего общества и отдельной личности; 3) совершенство эстетической формы, в которую должно облечься любое жизненное и творческое содержание, по- тому что только ясная, эстетически совершенная форма делает это содержание не просто личным самовыражением, а общественно значимым, реальным.
Доказательством существования этих черт является то, что еще в античном мире, воспитывая высокий дух юношества, рассказывали в стихах и прозе о героических событиях родной страны. Герой одного из стихотворений Ювенала, приглашая друга на обед, обещает ему: «Пенье услышим творца «Илиады» и звучные песни — Первенства пальму делящего с ним родного Марона» [5, с. 221].
Если простые люди античности и не читали «Илиаду», а заняты были ремеслом или земледелием, все-таки они находились в общине, а коллектив этой общины был близок каждому, был свой, привычный. Только в таком коллективе возможна была дружба, связывающая друзей в единый, сплоченный гражданский союз. В диалоге «Лелий» Цицерон отмечает: «Не след нам прислушиваться к тем, кому гражданская доблесть представляется бесчеловечной и жестокой, как железо. Как в разных других обстоятельствах, так и в дружбе бывает она и легкой и податливой, то как бы растворяется в удачах друга, то как бы твердеет от его бед» [5, с. 222]. Это классический пример, отражающий национальный тип — римлянина — и в то же время — всего общества. Человек реализует себя только тогда, когда он служит обществу: создавая прекрасные произведения искусства или материальные ценности, необходимые народу. Поэтому формы самовыражения: творчество, мысли, образы создателя зачастую нередко обращены к народу.
Отношения человека с реальностью сложны и многообразны. «Своеобразной формой отражения мира художником является метафоричность его мышления. Метафора в широком смысле есть образное выражение понятий, перенесение существенных признаков предмета на индивидуальное явление путем обнаружения сходства или различия. Но главное заключается в том, что в метафоре есть и образ, и понятийное содержание. Вот почему метафора глубока, а метафорическое мышление художника есть не скольжение по поверхности действительности, но проникновение в ее сущность [7, с. 179].
Деятельность людей охватывает собой весь видимый мир и превращает его в реальное воплощение человеческих сущностных сил. Обстоятельства текучи и изменчивы, а человек, оставаясь самим собой, в повседневной жизни равен и не равен себе, тот же и вместе с тем иной. Как пишет В. В. Бычков, «под повседневностью имеется в виду обыденная рутинная часть (большая по времени) жизни человека, которая в силу своей тривиальности, примитивной утилитарности, серой внесобытийности, монотонности остается практически незамеченной самим человеком (и его окружением), протекает автоматически, как правило, не фиксируется сознанием» [1, с. 479].
В последние годы философы все больше внимания уделяют исследованию элементов и фрагментов повседневной действительности, бесконечных случайностей и мельчайших эпизодов многообразной и многоликой жизни человека, общества. Просветители Гердер и Гумбольдт подчеркивали, что профессионалы художественного творчества получают идеи и образы у народа. Народ — создатель, носитель, хранитель языка и культуры, в поле которой протекает процесс художественного творчества, становление эстетического.
Но как народ может оценить прекрасное, сделать окончательный выбор? Какими словами-символами он это определит? Ненамеренно в познании эстетического, прекрасного участвует все общество, хотя только искусство делает это специально. Чтобы формировать эстетическое чувство, большинство членов общества может окружить себя такой атрибутикой, которая имеется в распоряжении ее заказчика; это условие его существования.
Следовательно, для начала общество должно так повлиять на человека, чтобы ему по вкусу пришелся предлагаемый искусством набор символов. При этом эстетическое сознание активно использует все средства воздействия на психику, которые предоставил сегодняшний день. Человеческое сознание выработало свои приемы, направленные на создание особого культурного пространства, где слова предстают в новом свете. Человек погружается в реальный мир, где существует как бы иллюзорный порядок, где и вещам, и самому ему отведено определенное место. Искусство определяет те свойства, которые дарят нам вещи или предметы. Впоследствии эти свойства осознанно или неосознанно выбираются обществом.
Погружение в мир символов и знаков не проходит для человека бесследно. Человеческая психика непроизвольно переносит законы иллюзорного мира в реальность: идея воплощается в действие и поступки. Причем материализуется не только определенная идея, но и потенциальная возможность воспринимать мир таким или иным образом. Хаос бытия упорядочивается человеческим мышлением, поступками и проявляется в слове. Слова диктуются идеями, часть этих идей просочилась из эстетических рассуждений.
Эти рассуждения происходили на наших глазах, и позабыв о своей оторванности от жизни, стремились подменить реальность. Этот язык обогатился, вобрал в себя знания из множества сфер человеческой жизнедеятельности. Как только появилась возможность обратить выдумку в правдоподобие, материализовать фантазии, выдавая их за реальность, так эстетическое сознание стало активно пользоваться этим. Само эстетическое сознание становится элементом социальнополитической структуры общества в целом. Создается впечатление, что философия выражает эпоху в мысли, а сама современность, повседневность захватывает мысль, лишая ее автономности на представительство истины.
Но в каждом из нас с детства находится неистребимое желание познать истину. Познать — значит приобрести знания, постичь закономерности развития объективной реальности, узнать что-то, испытать, пережить. Наша задача — выяснить, как человек, наделенный сознанием и волей, познает окружающий его мир, какую роль играют метафоры в познании повседневности.
Любой язык самобытен и индивидуален, поэтому тождественных по форме и лексическому составу метафор не так мало, хотя трудности в понимании умственных представлений и объективной реальности сохраняются. Каждый человек живет в определенное время и в определенном месте, переживает определенные события как объективную реальность. Как же соотносятся между собой эта мыслимая и в то же время объективная реальность, существующая в языке как в своем обобщении? Фактически общие свойства и процессы стремятся воплотиться, стать чем-то непосредственно данным, обрести форму, так как лишь через нее общий принцип становится конкретностью и индивидуальностью. Общие начала — материя, жизнь, творчество, язык, мысли — несут в себе не только возможность, но и потребность воплощения и необходимую для этого энергию, они внутренне динамичны и, оформившись окончательно, обретают свое подлинное бытие.
По Аристотелю, «материя есть возможность, форма же — энтелехия», а человек в повседневной жизни имеет своей энтелехией душу, которая и есть его сущность как форма. Познать сущность всегда сложно, поэтому нельзя отбрасывать в познании человека и язык, который отражает мысли и поступки. Если мы хотим познать истину, то мы не должны конструировать искусственного человека, а исследовать реального, такого, какой он есть в повседневности своей. Именно изучение жизни человека, поведения и языка дает максимальную информацию о нем. Как писал В. Паскаль, у человека нет простого и однородного бытия, поэтому то, что мы отыщем, не может быть какой-то одной формулой.
Изучая человека как живого, реального, чувствующего и мыслящего, мы убеждаемся, что объяснением его сущности должен быть его образ жизни, а не только мысли о себе и о мире. Среди философов по этому поводу шли и до сих пор идут споры: одни видят противоречия между природным началом и духовным бытием человека, а другие доводят до абсурда субъективацию жизни человека. Сегодня общей для всех философов стала проблема осмысления жизни человека в условиях научно-технического прогресса и социально-культурных трансформаций. Для человека XXI века материальные, бытовые условия изменятся намного быстрее, динамичнее по сравнению с духовным бытием. Это ведет к нарушению относительного равновесия человеческого бытия, поскольку человек переоценивает материальную культуру и значимость ее в его жизни, недооценивая духовность, забыв о необходимости самосовершенствования как духовного начала, что, в конечном счете, превращает многих в пессимистов.
«Не хлебом единым жив человек», — гласит народная мудрость. Сегодня многими не учитывается связь между материальным положением и духовным миром человека, между «материальным» счастьем и моралью. Разрушение этой связи ведет к разрушению духовности человека, порождая целую цепочку деструкций в его бытии. Поэтому актуальна проблема исследования человека в его повседневности, в его бытии.
Человек разумный нередко свои мысли выражает не прямо, он использует иносказания, сравнения, аналогии, метафоры, которые представляются в яркой, образной форме. А любому познающему субъекту образное представление о своем бытии или конкретном явлении более понятно и доступно, чем текст со сложными абстракциями. Мышление в форме конкретного образа выступает в виде внутренних действий сознания и операций. Основными свойствами образа, складывающегося в результате восприятия, являются предметность, целостность, контактность, обобщенность. Эти свойства у познающего чело- века развиваются постепенно, он воспринимает окружающий его мир с малых лет, обогащая свой ум знаниями и жизненным опытом. В процессе восприятия реальной жизни у человека формируются образы конкретных предметов посредством отражения всей совокупности их свойств.
Воспринимать мир в повседневной жизни в виде конкретных образцов — значит действовать по отношению к ним во внутреннем плане и получать представление о последствиях этих действий.
В связи со своей целостностью воспринятые образы способны регулировать соответствующее поведение человека. Тем более в процессе восприятия у человека включаются психические процессы более высокого уровня (память и мышление). Восприятие конкретного образа из окружающего человека бытия являются сложным процессом, требующим значительной аналитикосинтетической работы сознания. Поэтому восприятие точнее всего обозначать как воспринимающую деятельность человека. Результатом такой сложной умственной деятельности является целостное представление о мире, о реальной действительности. Огромную роль в восприятии мысленных образов играет желание человека воспринимать адекватно то, что создано словесно народом. Безусловно, необходимы его волевые усилия, направленные на лучшее понимание, настойчивость, которую должен проявлять сам человек, желающий познать этот мир. Д. С. Лихачев утверждал: «В этом мире все — значительно, полно сокровенного смысла. Задача человеческого познания состоит в том, чтобы разгадать смысл вещей, символику животных, растений, числовых соотношений…» [6, с. 8]. Поэтому исследованию подлежат не только семиотические смыслы реалий повседневной жизни, но и те лишенные самостоятельного смысла пустоты, те зоны бессознательного, на фоне которого рождаются семиотические смыслы. Таким образом, объектом нашего познания должен стать не только повседневный быт, но и настолько привычные и незамечаемые моменты, которые нами не осознанются и они как бы даже не быт. Особенно сложным объектом познания является внутренний мир человека, недаром в народе говорят: «Чужая душа — потемки». Познанию этих темных коридоров души человеческой посвящали свои произведения поэты, писатели, художники, ученые, психологи, философы разных времен и народов.
Вдушечеловека—сущностныйсубстрат,неотъ-емлемая принадлежность каждого человеческого существа. То, что неотъемлемо, дано человеку изначально, от рождения и будет сопровождать его по жизни, до самой смерти. Оно довлеет над тем практически-духовным миром, смыслами, ценностями и нормами которого живет человек. Оно имеет свойство главенствовать каузально, выступать в качестве первопричины мотивов и деяний,
По этому поводу Г. Кнабе пишет: «…познанию подлежит, семиотически говоря, не означающее — материальная величина, обладающая осязаемыми свойствами, принадлежащая определенному времени и месту и потому поддающаяся проверяемому и доказуемому описанию, и даже не знак, который всегда раскрывает свой смысл на основе восприятия его более или менее обширной социальной группой, а означаемое — тот живущий в душе и в сознании отдельного человека пережитой опыт, в свете которого он «читает» означающее и который есть его опыт, присущ прежде всего ему и потому глубоко и неповторимо индивидуален. Он может быть обобщен и представлен как принадлежащий опыту поколения, эпохи, социокультурной группы — но только ценой отвлечения от того смысла, что раскрывается неповторимо индивидуальному и потому не до конца выговариваемому опыту данного человека, данное означающее воспринимающему.
Тенденция современного культурологического познания, явствующая как из приведенных выше примеров, так и из объединяющей их установки — исследовать жизнь в ее последней конкретности, ведет к уловлению и исследованию культурно-исторических смыслов именно через означаемые, во всей индивидуальности их переживания [5, с. 99].
Повседневный быт человека может обретать вид пыточного следствия, где внутреннее, неотъемлемое может пытаться объять все разумом своим и не увидеть ничего, кроме ничтожной суеты сует. Как Экклезиаст, убедившийся, что во многой мудрости — много печали, сегодняшний обыватель увидел, что развитая человеческая способность к пониманию сущего похожа на болезнь, влекущую за собой страдания. Как Экклезиаст, успевший в прошлом пройти путь всех «нормальных» людей, т. е. активно действовавший, строивший, копивший богатство, но в итоге понявший, что все суета и тлен, сегодняшний обыватель разочарован во всем: он не верит ни в Бога, ни в черта, готов превратиться в насекомое и разрушать весь мир. Человек, вообразивший себя превратившимся в насекомое, встает на сомнительный и опасный путь, где его могут воспринять либо как деградан- та, либо как преступника, заслуживающего наказания. Гегель, размышляя над «Метаморфозами» Овидия, писал: «Метаморфозы, рассматриваемые с нравственной стороны духа, заключают в себе отрицательное отношение к природе: животные и неорганические образования делаются формой унижения человека… Природные существа выступают перед нами как наказание за какие-нибудь легкие и тяжелые проступки и чудовищные преступления» [2, с. 160].
Человек XXI века погружен в хаос сознания и информации, утратив смысловые и ценностные системы. Его мышление ошеломлено рафинированной рационализованностью, выступающей под именем порядка и законности, порой доведенных до абсурда. Его унифицированный образ жизни определен сообществом, коллективом, где «элита» создает для себя игры вседозволенности, руководствуясь в жизни только собственными необузданными желаниями, противопоставляя себя существующим общечеловеческим ценностям и нормам нравственности. Простой человек, согласно Ф. Ницше, выступает со своими ценностями, сознанием, мотивациями, поступками и действиями «прожигателем жизни». Много в душе такого человека затаенного от других людей, что дает ему смелость противопоставить свою позицию целому миру «нормальных» людей. Эту тайну чужой души тонко раскрыл в своих произведениях Ф. М. Достоевский, который считал это одним из своих главных творческих заслуг: «Я горжусь, — писал он, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости… Только я один вывел трагизм подполья, состоящее в страдании, в са-моказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры не в кого! Еще шаг отсюда и вот крайний разврат, преступление (убийство), Тайна …Подполье, поэт подполья — фельетонисты повторяют это как нечто унизительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда… Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. Нет ничего святого» [4, с. 229–230].
Реальность такова, что современному человеку не дано полностью растворяться в ее содержании. Отягощенный материальностью, он всегда находится как бы рядом с этой реальностью, ощущая и сознавая наличие границ, отделяющих его от идеального, прекрасного. Создаваемые человеком символы и метафоры позволяют ему перебрасывать мост через кажущуюся пропасть и соединять то, что представляются разъединенным. Поэтому символы, располагающиеся как бы между двумя реальностями, физической и идеальной, всегда пограничны. Через эти символы человеческая душа прикасается к идеальному, прекрасному. Через символы она отзывается на высшие смыслы, приобщается к ним. Среди всего многообразия символов, наиболее трудным и в то же время интересным и богатым является метафора.
Как и всякий символ, метафора пребывает на границе двух реальностей — явной и неявной. Ценностно-смысловая структура метафор часто лишена жесткости. Будучи пластичной и многомерной, она предопределяет ее исходную полисе-мантичность.
«Человек как родовое существо ищет и раскрывает для себя в вещах то их содержание, которое как бы воплощает в себе в превращенной форме самого человека, богатство его надбиологического существования. Поэтому история человечества есть колоссальное хранилище «культурных смыслов» — одну и ту же вещь разные люди, нации, поколения воспринимают и оценивают по-разному, в зависимости от представлений человека о самом себе и той картины мира, которая складывается у него в различные культурные эпохи, синтезируя антропологические и естественноприродные стороны бытия. Причем, если последние в своих фундаментальных онтологических основаниях (пространство, время, законы движения, структурное строение природы) остаются одними и теми же в разные культурные эпохи, то в картине мира, вырабатываемой человеком античности или средневековья, Возрождения или нового времени они трансформируются в зависимости от степени развития и совершенства самого человека как продукта и субъекта особенных в каждую эпоху общественных отношений», — пишет В. Д. Диденко. Далее он указывает: «В силу всех приведенных выше соображений можно сделать общее заключение о том, что культура как духовное бытие общества и личности в своем историческом движении, развитии и совершенствовании инвариантна развитию и совершенствованию самого человека, его сущностных сил. Поэтому духовная жизнь человека и есть подлинное мерило его человечности, образующее его субстанциональную основу» [3, с. 77].
Метафоры, заключая в себя скрытое уподобление, образное сближение слов на базе их пере- носного значения, способствуют раскрытию тех тайн человека, которые внешне и не заметны. Метафорами богата народная мудрость: пословицы и поговорки столь полисемантичны, многолики, что окончательный смысл в их истолковании трудно определить, поскольку всегда будет оставаться еще некий неизреченный смысловой «остаток». Как истинный символ метафора несет в себе целую вселенную смыслов, уводящих нашу мысль в беспредельность сущего. И как истинный символ метафора способна развиваться, изменяться, обогащаться все новыми значениями, при этом сохраняя некую загадочность. Существованию метафоры сопутствует парадокс: символ, имеющий конкретную форму, а с нею и ясно очерченные пределы, несет в себе содержание, не имеющее пределов. В конечном сосредоточено бесконечное, что являет собой одновременно и чудо, и тайну, перед которыми теряется человеческий рассудок.
В реальной жизни осмысление бытия не ограничивается только образно-мысленным восприятием. На основе первичных доступных образов человеческое сознание создает более сложные конструкции, которые определяются в своих наиболее общих признаках. Такой скачок в познании повседневности требует работы разума в течение определенного времени. Именно разум человека приводит его от образного восприятия мира к глубокому философскому анализу. Например, в народе говорят: Один в поле не воин. Одной рукой узла не завяжешь. Один палец не кулак. Один и у каши не спор. Одинокое дерево ветра боится. Один как перст. Один пашет, а семеро кулаками машут. Один волк гоняет овец полк. Один раз соврешь — другой раз не поверят. Одна ложка дегтя портит бочку меда. Один вор — всему миру разорение. Одна речь не пословица. Одна ласточка весны не делает. Один за всех, все за одного. Один ум хорош, два лучше.
В рассуждениях выявляется, что содержание этих пословиц как метафор многовалентно: одни выражают мысль, что в одиночку не справиться с каким-то делом, невозможно добиться результата; другие, наоборот, утверждают, что одинокому человеку легче перенести любые трудности, единственный случай может решить исход дела или повредить надолго; третьи касаются отдельных признаков, не являющихся сутью какого-либо предмета или явления.
В познании повседневности, безусловно, особую роль играет народная мудрость. Метафоричные обороты пословиц и поговорок тонко отмеча- ют и регулируют поведение и сознание человека во всех сферах общественной жизни — в труде и быту, политике и науке, в семейных и личных отношениях. В отличие от особых требований, предъявляемых к человеку в каждой отдельной их этих областей, морально-нравственные принципы имеют социально-всеобщее значение. Человек в реальной жизни убеждается, что нравственные принципы имеют всеобщее значение и распространяются на всех людей. Они фиксируют в себе то общее и изначальное, что делает возможным сами эти особые требования и составляют ценностный базис общества, культуры межчеловеческих отношений.
Метафоры, используемые народом в этой или иной форме, поддерживают и санкционируют определенные общественные устои, формы общения, ценностные установки. Требования нравственности должны подкрепляться в самой практике массового сознания и поведения людей, в процессе взаимного общения людей, являясь отображением жизненного опыта непосредственно в коллективных и индивидуальных представлениях, чувствах, воле. Каждый человек познает эстетические и нравственные нормы через познание повседневности, привычек, поступок и оценок общественного мнения, воспитываемых в человеке убеждений и побуждений. Опытные преподаватели, используя иносказание метафор и пословиц, ведут диалог с молодыми, своеобразную «маевтику», формируя у молодых чувство прекрасного, внутреннюю культуру:
Что советует пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь»?
О каком человеке говорят: «У него семь пятниц на неделе»?
О ком идет речь: «Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь»?
Что значит: «Семь верст до небес и все лесом»?
Куда отправились гости, если о них скажут: «Поехали за семь верст киселя хлебать?»
О каком родственнике идет речь: «Седьмая вода на киселе»?
Ваш друг «Семь пядей во лбу». Какой он?
Какое у вас самочувствие, если вы «на седьмом небе»?
Как понять «Семь бед, один ответ»?
Понимать метафоры не так-то просто, так как они по своему смыслу сложны и многоплановы. Часто встречаясь в афоризмах, они своим иносказательным планом близки к фразеологизмам. Иносказательное содержание афоризма можно описать, пересказать, истолковать. Например, овчинка выделки не стоит — дело не стоит того, чтобы им заниматься. Цыплят по осени считают — о результатах дела судят по его окончании. В основе содержания афоризма лежит суждение, а не понимание. Иносказательный план содержания высказывания могут иметь афоризмы, стоящие на грани перехода из поговорок в пословицы. Например, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Не так страшен черт, как его малюют. Жизнь прожить — не поле перейти. Что написано пером, не вырубишь топором.
Как видим, афоризмы как народная мудрость объединяют ум и мораль: идею находит мораль, а ум ее оформляет. Это обеспечивает возможность выхода за рамки рационального поиска и появления новых идей. Именно такой метод, с помощью которого происходит объединение сознания и подсознания, обеспечивает интеллектуальный прорыв, позволяет достичь личности в познании повседневности исключительной проницательности. В. Д. Диденко пишет: «Если духовное бытие человека есть вся совокупность его познавательной, преобразующей, ценностноориентационной и коммуникативной активности, реализующихся в науке, философии, искусстве, морали и включающих в себя все уровни этой активности — чувственный и рациональный, сознательный и бессознательный, мотивационноэмоциональный и когнитивный, то духовная культура может рассматриваться как способ организации, взаимодействия и полноты развития всех компонентов и уровней духовной жизни индивида и социума» [3, с. 77].
Еще античные философы (например, Парменид) в наибольшей мере рассматривали различные аспекты понятия «бытие», выделяя основные характеристики его: целостность, истинность, благость и красоту и провозглашали единство мысли и бытия (и не-мысли и не-бытия). Обнаружение смысла бытия производится М. Хайдеггером через выяснение смысла человеческого существования. Он считал, что язык обладает онтологическим статусом, напрямую связан с бытием. Бытие, по мнению Хайдеггера, как самое неуловимое (бытие в отличие от сущего не поддается предметному схватыванию), только и дает о себе знать, «просвечивает» сквозь язык. Именно поэтому он называл язык «домом бытия». Язык — это самостоятельная сила; не человек говорит на языке, а по мнению Хайдеггера, говорит сам язык, а через него и само бытие. Он, анализируя историю становления этой категории, писал, что причиной краха античной идеи о бытии явилось учение Платона, изменившее существо истины, рождение «ценности» и уродливого теоретического человека. Следствием этого явилось расщепление человеческого существа на дух и тело, а в теоретическом плане — раскол мира на субъект и объект. Рассматривая положение западноевропейского человека, Хайдеггер вопрошает: «Что происходит с человеком в эпоху техники?» Оказывается, человек всегда заранее уже втянут, захвачен сущностью техники, причем настолько решительно, что лишь в силу своей захваченности он и может быть человеком.
Человек отвечает на вызов техники всегда, даже когда она противоречит ему. Этот вызов предопределен: современный человек есть человек технический, человек производства. В поздний период творчества Хайдеггер определил модусы повседневной жизни: строить, жить, мыслить.
Человек существует и обретает себя как раз в границах этих модусов, а опыт пространственности человека развивается в поле игры божественного и смертного, земного и небесного. По его мысли, современность захвачена озабоченностью настоящим. Основная черта подобной заботы — это нацеленность жизни, сознания и т. д. в практически деятельных и теоретических моментах на наличные предметы, на преобразование мира. Эта нацеленность анонимна и безлика, поэтому и современный мир становится безличным и анонимным.
«Та стихия потребительства, вещизма и бездуховности, которая захлестнула сейчас наше общество, и есть, как нам представляется, эмпирическое проявление сущностных деформаций, происшедших в соотношении материальных и духовных аспектов общественного развития, следствие вульгарно-материалистических подходов в их оценке и анализе» [3, с. 76].
В желании человека выйти за рамки повседневности за рамки требований исходной ситуации и кроется проблема исследования повседневности, т. е. видеть в предмете нечто такое, чего не замечали другие. При этом мыслительная деятельность человека приобретает особо тонкий характер, а результат поиска, наблюдения, познания в целом шире, чем исходная цель. Познание человека повседневности выходит за рамки там, где перестает быть только ответом, только решением поставленной задачи. Познание с помощью афоризмов и метафор — это и решение, и ответ, и еще нечто сверх того, что определяет такую деятельность, как творческая.
|
Таким образом, не особая специфическая способность, а позиция человека (отношение к миру, смысл осуществляемой деятельности) определяет |
возможность духовных достижений в познании повседневности, т. е. богатство внутреннего мира личности определяет ее действия во внешнем мире. |
Список литературы Роль метафоры в познавательной деятельности и проблемы исследования повседневности
- Бычков В. В. Эстетика. М.: Гардарики, 2005.
- Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В 2 томах. Т. 2. М.; 1969.
- Диденко В. Д. Духовная реальность и искусство: Эстетика преображения. М.: Беловодье, 2005.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 16.
- Кнабе Г. Избранные труды. Теория и история культуры. М.-СПб.: Летний сад. (РОССПЭН), 2006.
- Лихачев Д. С. Классические произведения литературы Древней Руси//Избранные работы в 3 томах. Т. 2. Л.: Худ. литература, 1987.
- Яковлев Е. Г. Эстетика. М.: Гардарики, 2004.