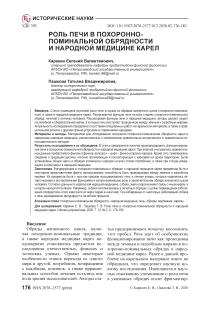Роль печи в похоронно-поминальной обрядности и народной медицине карел
Автор: Каракин Евгений Валентинович, Пашкова Татьяна Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Статья посвящена изучению роли печи в одном из обрядов жизненного цикла (похоронно-поминальном), а также в народной медицине карел. Раскрываются функции печи на всех стадиях похоронно-поминального обряда, начиная с кончины человека. Рассматривая функции печи в народной медицине, авторы делают акцент на лечебной и оберегательной магии, в которых печь выступает проводником между земным и загробным мирами. Актуальность исследования определена отсутствием специальных работ на карельском материале, а также в сравнительном аспекте с другими финно-угорскими и славянскими народами. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили похоронно-поминальная обрядность карел и карельская народная медицина, рассмотренные с применением сравнительно-исторического и сравнительно-сопоставительного методов. Результаты исследования и их обсуждение. В статье предпринята попытка проанализировать функционирование печи в похоронно-поминальной обрядности и народной медицине карел. При анализе учитывались сравнительные данные прибалтийско-финских (финнов, вепсов) и - шире - финно-угорских народов. Кроме того, привлекались сведения о традициях русских, исконно проживающих и контактирующих с карелами на одной территории. Были установлены общие черты в обрядах упомянутых народов на всех этапах погребения, а также при отходе умирающего в иной мир и в народной медицине. Заключение. Фигурирующим в похоронно-поминальных обрядах и народной медицине карел предметам быта и некоторым представителям фауны приписывалась способность быть проводниками между земным и загробным мирами. Из предметов быта с культом предков ассоциировались печь и печная утварь, которые наделялись катартическими и апотропейными функциями и играли важнейшую роль в заключительном обряде жизненного цикла человека. Согласно данным по карельской народной медицине, собака, змея и ворона имеют связь с иным миром, в котором находятся болезни. Например, собака использовалась в лечебных обрядах с целью перемещения заболевания посредством этого животного из мира людей в иной мир. При избавлении от некоторых заболеваний собака и печь одновременно фигурируют в лечебном процессе.
Похоронно-поминальная обрядность, народная медицина, печь, обряды, верования, карелы
Короткий адрес: https://sciup.org/147217975
IDR: 147217975 | УДК: 392 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.02.176-183
Текст научной статьи Роль печи в похоронно-поминальной обрядности и народной медицине карел
Обряды жизненного цикла, включая похоронно-поминальные традиции, а также народная медицина карел неоднократно становились предметом исследования отечественных, финских и эстонских ученых. Однако некоторые особенности этапов перехода из одного мира в другой, погребения, возвращения с кладбища, поминок, а также иррациональных способов лечения остались вне поля зрения исследователей. Авторы ста- тьи предпринимают попытку восполнить этот пробел. Речь идет об особенностях функционирования печи как проводника между земным и загробным мирами в похоронно-поминальных обрядах и народной медицине карел. Ранее к данной проблеме на карельском материале никто не обращался, что определяет научную новизну исследования. Имеющиеся в научных изысканиях упоминания о роли печи в указанных обрядах носят фрагментар-
176 ISSN 2076–2577 (print)
ный и разрозненный характер. Целью статьи является определить роль печи в похоронно-поминальной обрядности и народной медицине карел.
Обзор литературы
В трудах отечественных и финских ученых содержится ценнейший фольклорно-этнографический материал по похоронно-поминальной обрядности и народной медицине карел. Из работ отечественных исследователей нами использовалась монография Ю. Ю. Сурхаско, внесшего значительный вклад в изучение духовной культуры карел, «Семейные обряды и верования карел: Конец ХIХ - начало ХХ в.» [11]. В монографии на карельском материале рассматриваются родильная и похоронно-поминальная обрядность, а также религиозно-магические элементы традиционной семейной обрядности. Большой интерес представляет также исследование выдающегося фольклориста У. С. Конкка «Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи», посвященное карельским обрядовым причитаниям в похоронном и свадебном обрядах [7]. Сборник текстов финского языковеда П. Виртаранта “Vienan kansa muistelee” («Беломорский народ вспоминает»)1 является энциклопедией народной жизни беломорских карел. Этот монументальный опус, изданный полвека назад, как и другие образцы речи карельского языка, до сих пор служит уникальным источником для лингвистов, этнографов и фольклористов. В книге С. Паулахарью “Syntymä, lapsuus ja kuolema” («Рождение, детство и смерть») [15], написанной на финском языке с включениями на собственно-карельском наречии карельского языка, рассматриваются такие обряды перехода, как рождение и смерть человека. Бесценный для книги материал был записан от А. Лехтонен, уроженки д. Вой-ница Беломорской Карелии, в начале прошлого века. И. Кемппинен в монографии “Haudantakainen elämä: Karjalaisen muinaisuskon ja vertailevan uskontotieteen valossa” («Загробная жизнь: в свете древ- них верований карел и сравнительного религиоведения» [14] рассматривает похоронно-поминальную обрядность карел сквозь призму их древних верований. Однако проблема, связанная с ролью печи в похоронно-поминальной обрядности и народной медицине карел, ранее не становилась предметом отдельного исследования.
Материалы и методы
При проведении исследования авторами использовались сравнительно-исторический и сравнительно-сопоставительный методы. С помощью сравнительно-исторического метода карельские народные представления о некоторых аспектах народной медицины и похоронно-поминальной обрядности изучались в сравнении между этнолокальными группами карельского народа с привлечением данных о традициях других народов, преимущественно финно-угорских и славянских. Сравнительно-сопоставительный метод как одна из процедур сравнительно-исторического метода применялся для анализа языкового материала.
Результаты исследования и их обсуждение
Похоронно-поминальная обрядность – важнейший комплекс обрядов, завершающих жизненный цикл человека и направленных на благополучный переход из земного в загробный, или иной, мир. Карелы называют похороны «второй свадьбой», «грустной свадьбой» [15, 157 ], но в отличие от свадебной похоронная обрядность является более консервативной и устойчивой к трансформациям. Это объясняется тем, что в похоронно-поминальных обрядах в качестве инициаторов и хранителей ритуала преимущественно выступают представители старшего поколения, в то время как свадебная и родильная обрядность связана с представителями младшего поколения [11, 52 ].
Фигурирующим во многих обрядах карел предметам быта или представителям фауны приписывалась способность быть проводниками между земным и загробным мирами. Согласно данным по карель-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ской народной медицине, собака, змея и ворона имеют связь с иным миром, в котором находятся болезни. Именно поэтому, например, собака использовалась в лечебных обрядах с целью перемещения заболевания посредством этого животного из мира людей в иной мир. Из предметов быта с культом предков ассоциировались печь и печная утварь, которые наделялись катартическими и апотропейными функциями и играли важнейшую роль в заключительном обряде жизненного цикла человека. Иногда в одном обряде использовались и печь, и представитель животного мира.
Печь фигурировала на всех стадиях похоронно-поминального обряда, начиная с самой кончины человека. По народным представлениям, смерть наступает в тот момент, когда душа покидает тело. Случается, что человек не может умереть и мучается перед кончиной, бьется в агонии. Как говорят карелы, kuolema on kovinda työtä ‘смерть самая тяжелая работа’ [13, 446 ]. Для обозначения такого состояния в карельском языке существует выражение henki karkautuu; henki on karannun ‘душа не может покинуть тело, застревает (букв.: убегает, пускается в бегство)’. Согласно верованиям карел, если душа не может выйти, она возвращается в тело умирающего. Это может произойти, когда нарушается тишина в избе. Любой шум может «спугнуть» душу. Умирающего не оставляли одного, кто-то должен был «сторожить» ( varteija henkie ) его душу. Тем, кто оставался рядом с отходящим в иной мир, было запрещено разговаривать. Причиной тяжелого ухода могли быть незаконченные дела умирающего, о которых он думал и мучился. Чтобы облегчить кончину, незавершенное изделие или шитье сжигалось в печи. Однако в некоторых районах Карелии (например, в Сегозе-рье) незаконченные рукоделия доделывались за покойника, пока тот находился в избе [7, 39 ]. Грешная жизнь умирающего также могла стать причиной длительной и мучительной кончины [15, 89 ].
Наступление смерти наблюдали по движению воды в миске, которую стави-
2 Gorškova E. Karjalazien perindöt da tavat // Oma mua. 2000. № 33, 35. S. 3.
178 Финно–угорский мир. Том 12, № 2. 2020
ли рядом с умирающим: колыхание воды означало, что душа вышла. Если при выходе душа застревала, то умирающий начинал хрипеть. В таких случаях для облегчения кончины повсеместно на территории Карелии прибегали к элементам уподобительной магии с использованием печи. Открывали дымоволок, трубу, а с появлением печных вьюшек и их [14, 27 ]. Кроме того, на крыше над тем местом, где лежал умирающий, поднимали доски (иногда также открывали окна и двери). Это делалось для того, чтобы душа, вылетая, не снесла заднюю стенку дома [15, 89 ]. Данный обряд был широко распространен и у восточных славян [1, 164– 165 ] и финнов [16, 622 ]. Открытые печная труба, окна и двери служили выходом для души. По народным представлениям, печная труба, как и сама печь, – это канал между земным и иным мирами. В переходе из одного мира в другой прослеживается мотив пути. Открывание трубы является устранением препятствий на пути души и раскрытием ворот в иной мир.
В некоторых карельских лечебных обрядах одновременно фигурируют печная труба и собака. Это связано с тем, что они ассоциировались с загробным миром, в который карелы пытались отправить болезни. Например, в Петрозаводском уезде при лечении рахита у ребенка знахарка брала с собой в баню младенца и щенка и парила их поочередно. Затем щенка бросали в печную трубу и при этом произносили: “ Kunne kudžu, sinne koiran vahnus! ” «Куда щенок, туда и собачья старость!»2 ( koiran vahnus – ‘рахит (букв.: собачья старость)’).
После кончины покойник три дня находился в избе, и к нему приходили проститься родственники и соседи, принося с собой стряпню: рыбники, калитки, сканцы. Позднее ритуальную выпечку стали заменять буханки хлеба, печенье, пачки чая и т. д. По мнению У. С. Конкка, данный обычай может быть связан с запретом топить печь, пока в избе находится покойник [7, 51]. Объяснением этому может служить и польское поверье, согласно которому душа, прежде чем уйти на «тот свет», пребывает на покаянии в печи определенный срок, поэтому нельзя жарко топить печь3.
По поверьям, душа, отделившаяся от тела, три дня находится в доме и, сидя на печном столбе, наблюдает за подготовкой тела к похоронам. Душа все видит и слышит, поэтому о покойнике говорят или хорошо, или ничего. Душа не случайно выбирает это место, ведь печь, как и подпол, в верованиях карел тесно связана с культом предков. Когда-то прародительницу рода было принято хоронить под печью в подполе жилища. В дальнейшем она становилась духом-покровителем для своих потомков [11, 27 ].
Печь сопровождала человека на протяжении всего жизненного пути. Считалось, что он нуждается в ней и в мире ином. Подтверждением этому служит наличие очагов, сложенных из камней, в древних погребениях, обнаруженных во время археологических раскопок [7, 62 ].
Гроб является последним пристанищем человека. Связь понятий «гроб» и «дом» наблюдается в одном из названий гроба в карельском языке: kuolienkodi ‘дом мертвых’ . На это же указывают существовавшие у карел причитания, обращенные к гробовщикам, в которых содержалась просьба стесать гроб – вечное жилище покойника с элементами реального дома: с окном хоть с петушиный глазок и печью хоть с ласточкино гнездышко [7, 61–62 ].
По народным представлениям, покойник будет мерещиться домочадцам, если солому, на которой он лежал, его постельные принадлежности, щепки от гроба и прочий мусор сжечь в печи. Поэтому все это сжигалось на улице до похорон [14, 31 ]. Согласно поверью: куда дым от сжигания щепок направлялся, там и следующий покойник4.
Умерших от падучей болезни и покойников, страдавших при жизни психиче- скими заболеваниями, не мыли и клали в гроб ничком. Поднимали тело в гроб с помощью кочерег, не прикасаясь руками. Использование кочерги здесь не случайно. Верили, что так болезнь уйдет с покойником и не останется в роду [14, 28].
Перед выносом покойника из дома плакальщица от его имени причитала, прощалась с домом, в том числе с печью как одним из важнейших элементов избы. Просила прощения за свое возможное неуважительное отношение к ним при жизни, желая обеспечить себе покой в ином мире [7, 69 ]. Так, в причитании, записанном в д. Салменица Пряжинского района, у покойника спрашивают о том, как встретили его прародители, уложили ли на теплую печь, истопили ли баню [7, 50– 51 ]. Все это свидетельствует о том, что печь являлась неотъемлемым атрибутом и земной, и загробной жизни.
С целью защиты домочадцев от влияния kalma (букв.: смерть, могила) – болезни, которая, по поверью, приставала от кладбища или покойника (см. подробнее об этом: [10]), на то место в избе, где стоял гроб с покойником, клали или бросали железный предмет (кочергу, ухват, крюк с шестка) и сыпали горячую золу [11, 82 ; 14, 31 ]. Все эти предметы были не просто железными, они еще имели и прямое отношение к печи, что усиливало их оберегательную функцию. Отправляясь на кладбище, близкие родственники покойного для защиты от kalma в качестве индивидуальных оберегов завязывали в концы головного или шейного платка мелкие камешки, найденные в печи. Вернувшись домой, эти камешки бросали под печь [11, 83 ]. У сегозерских карел существовал обычай заглядывать в подпол и подпечье со словами: «Как эта темень исчезает, так и ты исчезни из моего сердца, из моей головы…», чтобы меньше тосковать по усопшему [5, 29 ].
Наиболее распространенным способом очищения от kalma по возращении с похорон было очищение водой или огнем. На территории Карелии повсеместно зафиксирован такой элемент обрядности, как прикладывание рук к печи: ладонями или ладонями и их тыльной стороной. Касаясь печи, приговаривали: «Покойник остался в земле, мы ищем теплую печь» [6, 149]. Вепсы, вернувшись с кладбища, первым делом касались руками печи, считая, что таким образом приобщаются к «теплому» миру живых и очищаются от соприкосновения с «холодным» миром мертвых5 [3, 163]. Среди карел бытуют разные мотивировки данного обряда: «чтобы покойнику было теплее», «чтобы передать привет с кладбища предкам, захороненным под печью», «чтобы не тосковать по усопшему, чтобы не бояться покойника, горестных воспоминаний и снов» [4, 160]. Детям касание ладонями печи объясняли следующим образом: «чтобы руки не мерзли зимой». Этот обряд бытует в сельской местности Карелии и сегодня. За неимением печи в современных квартирах люди, соблюдая традиции, продолжают касаться руками батареи парового отопления, что указывает на архаичность обряда [9, 298]. Он известен и другим народам. Например, южные коми-пермяки для очищения от смерти и преодоления страха перед умершим, придя с кладбища, прикасались к печи и заглядывали в нее [12, 14]. Мордва заглядывала в печь, чтобы не бояться покойников [8, 82]. Обряд знаком и восточным славянам [1, 164–165]. По народным представлениям, человек, прикоснувшись к любым деталям очага, автоматически попадал под покровительство хозяев дома [2, 28].
На поминки (сорочины и годовщину) покойнику стелили постель на теплой печи, думая, что ему будет приятно погреться после холодной могилы. На печи же накрывали импровизированный стол [7, 109 ].
Заключение
В похоронно-поминальной обрядности карел переплелись языческие и христианские элементы. Печь как языческий центр избы связана с дохристианскими представлениями о душе, очищении от болезни kalma и загробном мире. Фигурирующие в похоронно-поминальных обрядах и народной медицине предметы быта и некоторые представители фауны наделялись способностью быть проводниками между земным и загробным мирами. В некоторых карельских лечебных обрядах одновременно фигурируют печная труба и собака. Это связано с тем, что они ассоциировались с загробным миром, в который карелы пытались отправить болезни. У карел, как и у других финно-угорских и славянских народов, существовали культ огня и культ предков. Из элементов карельской избы с культом предков ассоциировались печь и подполье, которые наделялись катартическими и апотропейными функциями и играли важнейшую роль в заключительном обряде жизненного цикла человека. Несмотря на трансформации, некоторые элементы похоронно-поминальной обрядности, связанные с катартическими функциями печи, сохранились и бытуют в сельской местности до сих пор.
-
5 См.: Винокурова И. Ю. Мифология вепсов: энциклопедия. Петрозаводск, 2015. С. 345.
Поступила 07.02.2020, опубликована 07.08.2020
THE ROLE OF THE FURNACE IN KARELIANS FUNERAL
Список литературы Роль печи в похоронно-поминальной обрядности и народной медицине карел
- Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. 191 с.
- Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета: этногр. очерки. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. 166 с.
- Винокурова И. Ю. Огонь в мифологии вепсов // Вепсы: история, культура и межэтнические контакты: сб. науч. тр. Петрозаводск, 1999. С. 148-167.
- Винокурова И. Ю., Минвалеев С. А. Поминальная обрядность карелов-людиков: ареальная характеристика на фоне общих и локальных традиций соседних народов // Этнографическое обозрение. 2018. № 4. С. 152-170.
- Духовная культура сегозерских карел конца XIX - начала ХХ в. / У С. Конкка, А. П. Конкка. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. 216 с.
- Карелы Карельской АССР. Петрозаводск: Карелия, 1983. 288 с.
- Конкка У. С. Поэзия печали. Карельские обрядовые плачи. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1992. 295 с.
- Корнишина Г. А. Дом и ритуал в традиционной культуре мордвы // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2012. № 2. С. 80-85.
- Логинов К. К. Похоронно-поминальная обрядность // История и культура Сямозе-рья / отв. ред. В. П. Орфинский. Петрозаводск, 2008. С. 291-300.
- Пашкова Т. В. Религиозно-мифологические представления карелов о заболевании ка1та // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. № 4 (181). С. 100-102.
- Сурхаско Ю. Ю. Семейные обряды и верования карел: Конец XIX - начало ХХ в. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. 170 с.
- Чугаева С. В. Традиционный погребально-поминальный обряд коми-пермяков (конец XIX-XX в.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Москва, 2011. 19 с.
- Karjalan kielen sanakirja. Helsinki: Léxica Societatis Fenno-Ugricae, 1974. 591 s.
- Kemppinen I. Haudantakainen elämä: Karjalaisen muinaisuskon ja vertailevan uskontotieteen valossa. Helsinki: Karjalan Tutkimusseura, 1967. 224 s.
- Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia / toim. Pekka Laaksonen. Porvoo: WSO, 1995. 248 s.
- Vuorela T. Suomalainen kansankulttuuri. Porvoo: WSO, 1977. 776 s.