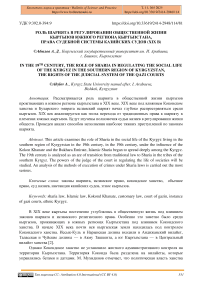Роль шарията в регулировании общественной жизни кыргызов южного региона Кыргызстана, права судебной системы казийских судов (XIX в)
Автор: Абылов А.Д.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 5 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается роль шарията в общественной жизни кыргызов прожтвающих в южном регионе кыргызстана в XIX веке. XIX веке под влиянием Коконском ханства и Бухарского эмирата исламский шарият начал глубоко распространяться среди кыргызов. XIX век анализируется как эпоха перехода от традиционных права к шарияту в племенах южных кыргызов. Будут изучены полномочия судьи казиев в регулировании жизни обществ. Проведен анализ способов исполнения наиболее тяжких преступлений по законам шарията.
Законы шарията, исламское право, кокондское ханство, обычное право, суд казиев, инстанция казийских судов, этнос кыргызов
Короткий адрес: https://sciup.org/14132466
IDR: 14132466 | УДК: 9:392.0-394:9 | DOI: 10.33619/2414-2948/114/81
Текст научной статьи Роль шарията в регулировании общественной жизни кыргызов южного региона Кыргызстана, права судебной системы казийских судов (XIX в)
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 9:392.0-394:9
В XIX веке кыргызы постепенно углублялись в общественную жизнь под влиянием законов шариата и исламского религиозного права. Особенно это заметно было среди кыргызов, проживающих в южных регионах Кыргызстана под влиянием Кокондского ханства. В начале XIX века почти вся кыргызская земля находилась под контролем Кокондского ханства. Иссык-Куль и Нарынская долина входили в Андижанский вилайет, Таласская и Чуйские долины — в Акму Ташкента, а юг Кыргызстана — в Центральный вилайет ханства [2].
Однако Кокондское ханство не установило жесткого административного контроля на территории Кыргызстана. Территория Коконда была разделена на вилайеты, которые управлялись бегами и датхами. М. Мухидинов отмечает, что политическая власть ханства распространялась на кочевые и оседлые этносы, такие как узбеки, кыргызы, кыпчаки и другие [7].
Власть бекства передавалась из поколения в поколение, при этом на должность бека назначался один из его детей для укрепления влияния ханства среди кочевников. Кокондцы также укрепляли свою власть, присваивая различные высшие государственные должности, такие как датхи, кази и другие. Ф. Назаров, дипломатический представитель правительства России, свидетельствовал о том, что в 1811 г административные документы канцелярии ханства были написаны на фарси-таджикском языке [8].
В селах старейшины занимались административной работой, регулировали до судебное расследование мелких споров, контролировали сбор налогов, предостовляли информацию беги. Система местного управления высшая должность глава вилаета бека и датхи, его подчиняли кур баши, серкер, мирап баши, кази-судью и. т.д. [9]
Это иерархии местных чиновников назначается самостоятельно беги, у кочевников датхами. Датхи назначались ханом, носителями военно-административной власти и руководили несколькими кочевыми племенами. Термин датхи озночает «желанию справедливости» во имя хана [2, 5].
В южной части Кыргызстана в XIX веке существовала система казийских судов. Кази — это судья, исполняющий высшие судебные функции и одновременно контролирующий религиозные обязанности. Судебный корпус Кокондского ханства официально возглавлял кази-келон. Местные казийские суды создавались на территории каждого бекства, а казий назначался бегом. Полномочия казиев были обширны. Кази был официальным представителем власти, защищавшим интересы религии, курировал деятельность мечетей, следил за рыночными продажами, решал вопросы шариата, контролировал точность весов, качество товаров и регулировал повседневную жизнь людей [10].
Они рассматривали судебные дела всех категорий, наблюдали за исполнением судебных решений, осуществляли надзор за местами заключения, удостоверяли завещания, распределяли наследство и проверяли законность землепользования. Количество судов казиев в каждом бекстве определялось датхами и беками [2].
По мнению офицера В. Наливкина, суд казиев подразделялся на четыре ветви власти:
Казы-келон — верховный судья государства, имел право лично рассматривать каждое дело в бекствах, контролировал и управлял судебной системой ханства.
Казы-күзөт — личный помощник кази-келона.
Казы-аскар — ведал военными судебными делами.
Казы-раис — занимался регулированием общественно-базарных отношений, контролировал соблюдение правил торговли, весов, цен, гарантий, аренды, а также распределение воды в сельскохозяйственный сезон.
Помимо этих обязанностей, казы-раис следил за соблюдением исламских религиозных норм и традиций. Казий не имел строго определённого судебного участка. Любой истец или жалобщик мог обратиться к тому казию, к которому желал [9].
Саттар Абдулгапарова, многие годы проработавшая судьёй в городе Чымкенте в период Кокондского ханства, написала свой дневник «Очерк положения в Кокондском ханстве». В нём она разделила все преступления на три группы [1].
Первая группа включала преступления, направленные против основ религии и государства, за которые следовало строго определённое наказание — хад. К ним относились, прежде всего, вероотступничество и богохульство, каравшиеся смертной казнью. Также смертная казнь применялась ко всем выступлениям против государственной власти. В эту же
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №5 2025 категорию входили преступления, объявленные тяжкими грехами: кражи, употребление спиртных напитков, прелюбодеяние, а также ложное обвинение в прелюбодеянии [1].
Вторая группа объединяла преступления против отдельных лиц. Наиболее детально были разработаны нормы, касающиеся умышленного убийства, за которое предусматривались альтернативные наказания. Родственникам убитого предлагалось выбрать один из трёх вариантов: А) смертную казнь убийцы; Б) прощение убийцы; В) получение денежной компенсации «дия» (выкуп за кровь). Г) размер выкупа обычно приравнивался к стоимости 100 верблюдов.
В третью группу входили правонарушения, за которые предусматривалось судебное наказание. К ним относились неуплата закята, несоблюдение поста, нанесение лёгких телесных повреждений, оскорбления, хулиганство, взяточничество, азартные игры и т.д. [1, 10].
В целом казийский суд XIX века плохо знал шариатские законы. Дела о незначительных нарушениях рассматривались в домах и на рынках, тогда как серьёзные преступления обсуждались в специально отведённых местах по согласованию с беком и датхой. Судебный процесс, как правило, проходил в открытом порядке. В случае тяжких преступлений казий обязательно вызывал бека, который участвовал в судебном разбирательстве. Время и дату судопроизводства казий назначал самостоятельно.
Среди оседлого населения Ферганской долины с течением времени увеличивалось число обращений в казийский суд. Туркестанский военный офицер Г. Южаков отмечал, что в 1886 году количество местных жителей, обратившихся в суд по шариату по земельным вопросам, значительно возросло. Однако среди бывших кочевников оставалось много людей, плохо знакомых с нормами ислама [10].
В XIX веке, в эпоху Кокондского ханства, серьёзными считались две категории преступлений: противодействие исламу и посягательство на собственность феодалов. Казий лично председательствовал на судебном заседании. Первое слово предоставлялось потерпевшему, затем свидетелям, и, наконец, обвиняемому. Дело должно было быть решено в рамках одного заседания и не могло откладываться на следующий день.
Судебный процесс превращался в своеобразное состязание сторон, где богатые и бедные находились в неравном положении. Судья обладал широкой свободой усмотрения, что позволяло ему руководствоваться личными симпатиями и предпочтениями [4, 10].
Судопроизводство в казийских судах в основном велось в письменной форме. Процесс подразделялся на три условные стадии. На первой определялся предмет спора, на второй проводилось представление доказательств, на третьей выносился приговор. При обнаружении новых фактов допускался пересмотр решения. Судья имел право пересматривать собственное решение.
При оценке доказательств в суде господствовал формализм [7, 9]. Так, достаточным доказательством по делу считались показания двух достойных доверия свидетелей-мусульман. Показания женщин рассматривались как «половинные» доказательства. Если свидетелей преступления не находилось, обращали внимание на вещественные доказательства. При отсутствии достоверных или убедительных доказательств применялась клятва, которую обычно должен был произносить ответчик или обвиняемый [1].
Подозреваемые приносили присягу, держа в руках священный Коран и читая аяты. Клятва со ссылкой на Аллаха принималась в судебном процессе как веское доказательство, освобождая обвиняемого от ответственности или смягчая наказание. Если подозреваемый отказывался принести присягу, он автоматически признавался виновным.
Признание обвиняемого рассматривалось как достаточное доказательство для вынесения судебного решения. В случае признания лица виновным судья мог назначить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Осуждённого отправляли в темницу, которая представляла собой грязное и антисанитарное место, расположенное в столицах вилаятов. Ворам отрезали пальцы в зависимости от размера украденного имущества [9].
Наказание за причинение телесных повреждений включало нанесение не менее 60–80 ударов, отрезание пальцев (тип наказания рассчитывался в зависимости от тяжести преступления). Половина налога дия выплачивалась за увечье одной руки или одного глаза. Ослепление обоих глаз оценивалось в полную сумму налога дия. За сломанный зуб взыскивалась одна двадцатая часть дия, за сломанную ногу — половина, за сломанный палец — одна десятая часть [8].
В случае смерти женщины выплачивалась половина суммы дия. Если погибал раб, его хозяину полагалась выплата в размере налога дия. Если преступник не мог самостоятельно уплатить налог дия, обязанность выплаты возлагалась на его родственников. Согласно ханафитской школе, если мусульманина убивал человек другой религии, сумма налога дия удваивалась [7].
В некоторых случаях беки и датхи были вынуждены принимать самостоятельные решения. В судебном разбирательстве выигравшая сторона выплачивала вознаграждение судье и его сопровождающим, а также предоставляла денежное вознаграждение в виде тиллей для священнослужителей.
Казийские суды действовали на основе законов шариата [6]. В южных регионах Кыргызстана XIX век называли эпохой перехода от обычного права к шариату. Казийские суды осуществляли свою деятельность в соответствии с законами шариата и выступали в качестве представителей судебной власти в исламском праве. В судебной системе особое место занимали источники шариатского права.