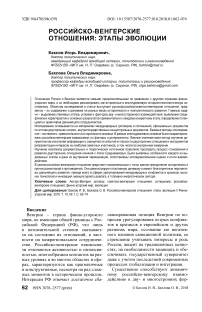Российско-венгерские отношения: этапы эволюции
Автор: Бахлов Игорь Владимирович, Бахлова Ольга Владимировна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Отношения России и Венгрии являются самыми продолжительными по сравнению с другими странами финно-угорского мира, и их необходимо рассматривать как встроенные в многоуровневую историко-геополитическую систематику. Объектом исследования в статье выступают русско/российско/советско-венгерские отношения, предметом - их содержание и динамика на разных вехах исторического и геополитического развития. Главные задачи - выделение ключевых этапов, условий и факторов дву- и многостороннего взаимодействия; выявление специфических характеристик и основных результатов применительно к каждому конкретному этапу; определение потенциала и ориентиров дальнейшего сотрудничества. Исследование основывается на материалах международных договоров и соглашений, официальных документов по итогам двусторонних встреч, внутригосударственных концептуальных документов. Базовые методы исследования - системного, сравнительного и исторического анализа. В рамках многоуровневого анализа были охарактеризованы российско-венгерские взаимосвязи, их факторы и детерминанты. Важное значение имел метод изучения документов как носителей информации о совокупности событий в плоскости двусторонних отношений и инструментов репрезентации интересов их наиболее заметных участников, в том числе во внутреннем измерении. Изучение комплекса документальных и теоретических источников позволило проследить процесс становления и развития двусторонних отношений начиная с эпохи Средневековья. Были выявлены особенности каждого из выделенных этапов и дана их внутренняя периодизация, сопоставлены исследовательские оценки и итоги взаимодействия. В целом российско-венгерские отношения предстают показательными с точки зрения преодоления исторических и прочих разногласий и противоречий. Они демонстрируют позитивную динамику и имеют благоприятные перспективы дальнейшего развития, прежде всего в сферах урегулирования международных конфликтов и кризисов, высоких технологий и инноваций, межкультурного диалога, в топливно-энергетическом секторе.
Австро-венгрия, соглашение, договор, советско-венгерские отношения, российско-венгерские отношения, финно-угорский мир, эволюция
Короткий адрес: https://sciup.org/147217853
IDR: 147217853 | УДК: 94(470):94(439) | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.01.062-074
Текст научной статьи Российско-венгерские отношения: этапы эволюции
Венгрия – страна финно-угорского мира, не имеющая общей границы с Российской Федерацией (РФ), что лишь в незначительной степени сказывается на состоянии их отношений, в частности на межрегиональном сотрудничестве. Российско-венгерские взаимосвязи отличаются активностью и интенсивностью, многообразием контактов на разных уровнях и во многих областях и сферах, характеризуются как прагматичные и конструктивные, несмотря на ряд сложных моментов в историческом прошлом. Интересам РФ отвечает достаточно сба- лансированная позиция Венгрии по вопросам урегулирования острых конфликтов и кризисов в европейском и других регионах мира, осознание ею негативного влияния санкционной политики, ее стремление учитывать интересы и роль России, акцент на традиционных ценностях, на необходимости защищать и обеспечивать государственный суверенитет даже с учетом последствий современных процессов глобализации и интеграции.
Существенно способствуют динамичному российско-венгерскому взаимодействию в дву- и многостронних фор- матах социокультурные факторы, включая этническое и языковое родство венгерского народа и финно-угорских народов РФ, сходное восприятие актуальных вызовов и угроз безопасности и стабильности, перспектив и преимуществ энергодиалога, богатый опыт независимого государственного развития. В то же время отношения России и Венгрии исторически и сейчас невозможно рассматривать в отрыве от более широкого контекста европейской и международной политики. Каждая из стран претерпела издержки неоднократных геополитических масштабных трансформаций, итогами которых являлось изменение их границ, политико-правовых конструкций и социально-экономических систем, статусно-ролевых характеристик на международной арене, что влияло на стратегии их позиционирования и поведения в отношении друг друга. Причем нередко они должны были реагировать также на колебания курсов других игроков, с которыми были или остаются тесно связанными. С венгерской стороны таковыми ранее выступали прежде всего Габсбургская монархия / Австро-Венгерская империя, в постбиполярный период – Европейский Союз (ЕС) и Организация Североатлантического договора (НАТО). Соответственно российско-венгерские отношения необходимо анализировать как встроенные в многоуровневую историкогеополитическую систематику, что позволит лучше объяснить и понять особенности и детерминанты их текущего взаимодействия, а также показать его перспективы на будущее, исходя из признания как общих или совпадающих, так и расходящихся или даже противоположных интересов.
С этой точки зрения объект данного исследования образуют русско/российско/ советско-венгерские отношения, предмет – их содержание и динамика на разных вехах исторического и геополитического развития. Достижение поставленной цели требует решения комплекса задач, главные среди которых – выделение ключевых этапов, условий и факторов дву- и многостороннего взаимодействия;
выявление специфических характеристик и основных результатов применительно к каждому конкретному этапу; определение потенциала и ориентиров дальнейшего сотрудничества.
Обзор литературы
Проблематика отношений России и Венгрии вызывает достаточный интерес у отечественных и зарубежных авторов. Имеются работы, посвященные непосредственно раскрывающим ее вопросам. Они преимущественно носят исторический характер и затрагивают главным образом отдельные этапы или периоды становления и эволюции двусторонних отношений. Однако таковых относительно немного. Здесь следует в первую очередь назвать исследования М. М. Волощука [3], С. С. Колегова [9], Д. Криш-то [10], М. Фонта [16] и М. К. Юрасова [17; 18]. М. К. Юрасов справедливо замечает, что изучение русско-венгерских отношений в целом остается на уровне разработки «смежных вопросов», связанных с социальной историей или историей между княжеских отношений. Автор также обращает внимание на отсутствие полномасштабной истории русско-венгерских отношений в эпоху Средневековья. Заслуживает отдельного упоминания, что он признает важным фактором русско-венгерские отношения геополитические устремления соседних держав1. Украинский исследователь М. М. Волощук отмечает многослойность исследований в современной венгерской историографии русско-венгерских отношений эпохи Даниила Галицкого – в военно-политическом, идеологическом, социально-экономическом, культурном, религиозном аспектах [3, 11 ]. С. С. Колегов прослеживает историю отношений между Русским государством и Венгрией со второй половины XV в., подчеркивая противоположные изменения в положении обеих сторон и отмечая негативные для Венгрии последствия как турецкой экспансии, так и политики австрийских властей [9, 188–190 ].
Подробно анализируются в отечественной и зарубежной литературе советско-венгерские отношения, чаще всего в контексте блоковой политики эпохи «холодной войны». В соответствующих работах освещаются вопросы участия Венгрии в Организации Варшавского договора (ОВД) и Совете экономической взаимопомощи (СЭВ), двусторонних дипломатических, межпартийных, общественных связей между СССР и Венгерской Народной Республикой (ВНР), событий 1956 г. и др. [4; 5; 6]. Их несомненное достоинство составляет учет взаимосвязанных детерминант и особенностей, в том числе историко-политических.
Существенными для нашего исследования были коллективные работы, ориентированные на изучение отдельных, но принципиальных с точки зрения развития двусторонних отношений сюжетов в ракурсе переломных событий внутренней или мировой истории [11; 14]. Особое значение имеет сборник с участием российских и венгерских авторов, изданный совместно Ставропольским региональным отделением Российского исторического общества, Северо-Кавказским федеральным университетом, Институтом славяноведения РАН и Капошварским университетом (Венгрия) [15]. Наибольший интерес в нем представляют разделы по истории российско-венгерских взаимоотношений и о роли России и Венгрии в истории международных отношений.
Наконец, следует остановиться на обширной группе научных работ, которые ввиду нашей проблематики можно рассматривать как общие, многоплановые. В них раскрываются содержание и эволюция внешней политики Руси / Русского государства / России [7; 8; 12], европейской и международной политики эпохи Нового времени [1; 19], история2, династические и внешние связи Австрийской / Габсбургской державы и Венгрии [2; 13; 20; 21; 22 и др.]. Они основаны на широком использовании документов из Венского династического, дворцового и государственного архива, средневековых австрийских хроник и др. В частности, известный венгерский публицист и общественный деятель О. Яси обращался к проблеме соотношения пангерманизма и панславизма в конце XIX – начале XX в., приписывая последнему сентиментально романтическую направленность и уто-пичность3.
Подытоживая обзор литературы, можно говорить об отсутствии на данный момент комплексного исследования поставленной проблемы как в отечественной, так и в зарубежной историографии, несмотря на детальный анализ ее многих аспектов с привлечением различных источников. Также требуют углубленного систематического изучения современное состояние и вероятные сценарии российско-венгерских отношений.
Материалы и методы
Исследование основывается на материалах международных договоров и соглашений, официальных документов по итогам встреч представителей Венгрии и РФ, внутригосударственных документов концептуального характера, данных таможенной статистики и показателях динамики официальных контактов, теоретических источников отечественных и зарубежных авторов.
Базовые методы исследования – системного, сравнительного и исторического анализа. Их применение способствовало успешному решению названных задач, в первую очередь – углубленному изучению и обобщению историко-политологических знаний о российско-венгерских отношениях, тенденциях и закономерностях их развития на разных временных отрезках. В рамках многоуровневого анализа были охарактеризованы многослойные взаимосвязи в плоскости дву- и многостороннего взаимодействия, факторы и детерминанты их динамики.
Важное значение имел метод изучения документов как носителей информации о совокупности событий в плоскости двусторонних отношений и инструмен- тов репрезентации интересов их наиболее заметных участников, в том числе во внутреннем измерении. Использовались официальные документы – договоры и соглашения Российской империи и Священной Римской империи / Габсбургской монархии, СССР и ВНР, Российской Федерации и Венгерской Республики / Венгрии, а также стратегические документы в области внешней политики и обеспечения национальной безопасности обеих стран.
Хронологические рамки исследования охватывают конец XI – начало XXI в. Однако наибольшее внимание уделено со-ветско/российско-венгерским отношениям Новейшего времени, когда сформировалась повестка, актуальная для современных форм государственности обеих стран, и были восстановлены прямые межгосударственные связи.
Результаты исследования и их обсуждение
Русско/российско-венгерские отношения имеют давнюю, более чем тысячелетнюю историю, восходящую к эпохе Средневековья. Еще в эпоху ранних Арпадов (правили до 1301 г.) Русь и Мадьярское королевство поддерживали достаточно тесные контакты, в том числе династического характера. Этому способствовали не только географическая близость (уже в 1080-е гг. владения венгерских королей распространились на территорию, примыкавшую с запада к «Русским Альпам» – Карпатам), но и наличие общих интересов в урегулировании отношений с Византией, Германией / Священной Римской империей, Польшей (характерна в этом плане польско-русско-венгерская коалиция 1106–1109 гг.), а также в борьбе с половецкой опасностью. Одна из дочерей Ярослава Мудрого Анастасия стала женой Эндре (Андрея) I Католика (1046–1060), а их сын Шаламон (Соломон) некоторое время был королем Венгрии (1063?–1074). В документах имеются упоминания о браке в 1112 г. дочери Владимира Мономаха Евфимии и венгерского короля Калмана Книжника (1095– 1114/1116), принца Алмоша, его брата, в
1102 / 1104 гг. с дочерью Святополка Изяславича Предславой и др. Неоднократно венгерские короли принимали участие и в междоусобицах русских князей [16, 86–115 ; 18, 139–153 ].
При поздних Арпадах определяющим общим внешним интересом для русских земель и Венгрии была борьба с монгольским нашествием. Несмотря на отсутствие совместных действий, во многом благодаря активному сопротивлению Руси Бела IV (1235–1270), «второй основатель Венгрии», отстоял ее территорию от второго монгольского нашествия (1262 г.). Также упоминаются вовлеченность Даниила Романовича, князя галицкого (1205–1206, 1211–1212, 1229–1231, 1233–1235 и 1238–1264) и волынского (1215–1229, 1231–1233 и 1235–1238), в решение «австрийского вопроса» и образование русско-венгерской коалиции в 1250-е гг. [7, 25–50 ]. В эпоху кратковременного правления представителей династий Пржемысловичей (1301–1305), Вит-тельсбахов (1305–1307), Анжуйской династии (1290, 1307–1395), Люксембургов (1387–1437), Габсбургов (1437–1440), Ягеллонов (1440–1457, 1490–1526), Хуньяди (1446–1490) русско-венгерские отношения были гораздо менее интенсивными. Это было связано прежде всего с последствиями монгольского нашествия на Русь и сложным положением на территории Венгрии королей из указанных династий, которых признавала фактически лишь часть венгерских феодалов (например, Ласло V Чеха Пржемысловича (1301–1305) поддерживали только феодалы современных Словакии и Бургенланда).
Относительная активизация русско-венгерских отношений отмечалась при Матвее (Маттиасе, Матьяше) I Корвине Хуньяди (1458–1490), который в условиях начала турецкой экспансии выступал за создание единой Дунайской монархии, способной объединить Венгрию, Чехию, Австрию и, возможно, Польшу на правах личной унии. В 1482 г. Матьяш Хуньяди установил дипломатические связи с Русским государством. Однако «игры» за венгерский престол, в которых прини-
® ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ мали участие представители разных государств, осложняли сохранение постоянных контактов; нередко Русское государство было вынуждено пересматривать ориентиры венгерской политики в результате колебаний прежде всего в отношениях с Речью Посполитой4.
Эволюцию русско-венгерских отношений можно рассматривать и в контексте русско-имперских / габсбургских связей. Здесь выделилось несколько важнейших направлений:
-
1) турецкое – стремление Габсбургов заручиться поддержкой (главным образом военной помощью) Русского государства, сбросившего монголо-татарское иго, против Османского государства, с начала XV в. прямо угрожавшего владениям Габсбургов на Юго-Востоке Европы (Каринтии, Крайне и др.);
-
2) польское – в рамках традиционного противостояния Габсбургов с Ягеллона-ми император Фридрих III (1452–1493; в 1458–1463 гг. – номинально король Венгрии) пытался за счет Руси ослабить влияние Ягеллонов на Чехию и Венгрию;
-
3) прибалтийское – в качестве продолжения предыдущего: оно также имело ан-типольскую направленность; Фридрих III пытался получить русскую помощь для раздела земель Тевтонского ордена, которыми к этому времени практически завладела Польша.
В ситуации конфликта Фридриха III Габсбурга с Францией на Западе и с Польшей на Востоке в поисках союзника в 1490 г. к Ивану III были направлены два имперских посольства во главе с Георгом фон Турном (Юрием Делатором) (1490 и 1491–1492 гг.). Среди прочего посольства должны были склонить Русское государство к войне с Польшей и Литвой, чтобы отвлечь внимание Речи Посполитой от Венгрии и Чехии. Несмотря на заинтересованность русской стороны, предварительный договор о политическом союзе Империи и Русского государства против Речи Посполитой не был реализован.
После этого в русско-имперских отношениях наступил большой перерыв, обусловленный следующими факторами: 1) заключение мира в Пожони между Габсбургами и Ягеллонами (1491 г.), что фактически лишало смысла русско-имперский договор; 2) подписание Сан-лисского франко-имперского мирного договора (1493 г.), деактуализировавшего для Габсбургов поиски союзников; 3) нежелание русской стороны принимать имперские предложения по ряду вопросов под влиянием в том числе опасений резкой смены в имперской политике [1]. Уменьшение остроты обозначенных проблем для Габсбургов делало для них (во-енно-)политический союз с Русским государством гораздо менее целесообразным. Однако в более поздний период еще одна общая внешнеполитическая проблема – турецкая экспансия в Европе – определила новое сближение в российско-имперских отношениях.
Геополитическое положение Австрии превратило ее в главную антитурецкую силу в Центральной Европе; в ХVII в. к ней от Испании перешла ведущая роль в противоборстве с Османской империей. При этом в австро-турецких войнах 1540–1547, 1551–1562, 1566–1568 и 1660–1664 гг. главным вопросом был раздел земель Венгерского королевства. После поражения турок под Веной в 1683 г. и завершения войны 1683–1699 гг. Австрии удалось заключить выгодный для нее Карловицкий мир 1699 г., отдававший ей большую часть Венгрии и Славонии, а также Хорватию и Трансильванию. Успех закрепили Пожаревацкие мирные договоры 1718 г.5, позволившие отодвинуть границы турецких владений от Венгерского королевства на южном направлении [2, 58 ; 19].
В целом, в эпоху Позднего Средневековья и Нового времени русско/российско-венгерские отношения сохраняли неустойчивый, даже скачкообразный характер, будучи подверженными воздействию как внутренних условий, так и внешних угроз и вызовов – в первую очередь со стороны Речи Посполитой и Османской империи (в ситуации фактического раздела Венгерского королевства после 1526 г.). Так, Стефан Баторий, князь Трансильвании (1571–1576), король Польши, великий князь Литовский (1575–1586), был одним из самых активных противников Русского государства в ходе Ливонской войны 1558–1583 гг. Напротив, Габор Бетлен, князь Трансильвании (1613–1629) и король Венгрии (1620– 1621) направил посольство в Москву для заключения союза против турок (1628 г.) [1; 9].
В начале XVIII в., в ходе национальноосвободительной войны против Габсбургов (1701–1714), наметилось очередное дипломатическое сближение с Россией. По инициативе Ференца II Ракоци, князя Трансильвании (1704–1711), после принятия закона о детронизации Габсбургов с венгерского престола (1707 г.) был подписан тайный договор с послами Петра I Великого, и страны обменялись послами. Петр I давал обещание склонить императора к «возвращению» вольности «Угрии и Семиградью» (Трансильвании) и «к содержанию», т. е. утверждению, Ракоци на княжеском престоле последней.
Однако союз между Венгрией и Россией, как, собственно, и «пряшевский план» урегулирования венгерского вопроса при посредничестве России, не состоялся. Сказались отвлечение внимания Петра I на действия Карла XII и необходимость сохранить хорошие отношения с Австрией ввиду турецкой угрозы [9; 11; 15, 134–143 ].
Непосредственно для Венгрии фактор внешней опасности со стороны Османской империи тоже сохранял важное значение, что повлияло на укрепление позиций Габсбургов на территории королевства. В условиях династического кризиса им удалось отстоять наследственные права на венгерскую корону за женской линией дома, хотя в государственноправовом отношении королевство Венгрия и великое княжество Трансильвания, а также Хорватия в рамках Венгрии рассматривались как земли, пользовав- шиеся определенной внутренней автономией [2, 74–75].
Ухудшение российско-турецких отношений побудило Россию на долгие годы отказаться от попыток воздействовать на внутреннюю ситуацию в Венгрии и заставило ее сблизиться с Австрией. Российско-австрийский союз превратился в доминанту отношений России с Венгерским королевством в составе Габсбургской державы. В то же время Россия и Австрия выступали союзниками и в рамках антифранцузских коалиций конца XVIII – начала XIX в., а также «европейского концерта» и Священного Союза после Венского конгресса 1814–1815 гг. [14]. Угроза распространения революционных настроений интерпретировалась как подрывающая «консервативные ценности», и аналогично рассматривалась ими активизация национально-освободительных движений. Практически безоговорочная приверженность России в период правления Николая I (1825–1855) принципу легитимизма, расширительно трактуемому, несмотря на усиливавшиеся разногласия с Австрией, побудила ее открыто вмешаться в подавление венгерского восстания 1849 г. Эта акция, безусловно, наложила негативный отпечаток на восприятие России в Венгрии. После Крымской войны 1853–1856 гг. утратили союзнический характер и российско-австрийские отношения. Противоречия на балканском направлении, готовность Австрии принять участие в войне на стороне противников России вкупе с другими причинами определили необходимость пересмотра политики России по поиску и подбору внешнеполитических партнеров. В 1870-е гг. еще предпринимались попытки к возобновлению российско-австрийского союза («Союз трех императоров», вынужденная и относительная координация действий по боснийскому вопросу и др.), однако усиление позиций России на Балканах после русско-турецкой войны 1877–1878 гг., воспринятое Австро-Венгрией как чрезвычайно опасное, способствовало завершению названной трансформации.
Подчеркнем, что активная балканская политика России встретила болезненную реакцию не только у Вены, но и у Будапешта. И. Первольф еще в 1877 г. замечал, что Будапешт имел собственные представления о зоне влияния средневекового Венгерского королевства на Балканах, включая в нее Сербию, Румынию, Болгарию, Боснию и Герцеговину. По его мнению, внешнеполитические потери в восприятии венгерского правящего класса сочетались с осознанием нарастающей славянской угрозы для Венгрии, исходившей как от независимых славянских государств в союзе с Румынией, так и от славянского населения, проживавшего на территории Венгрии [15, 85 ].
В итоге совокупность разногласий и противоречий по Балканам, политике панславизма и прочее привели Россию и Австро-Венгрию в противостоявшие друг другу блоки (Тройственный союз и Антанту). Вместе с тем можно утверждать, что российский фактор сыграл определенную положительную роль для повышения статуса Венгрии в рамках системы политического дуализма, основанной на равноправии двух частей империи – Цислейтании (Австрии) и Транс-лейтании (Венгрии).
В годы Первой мировой войны 1914– 1918 гг. Россия и Венгрия, бывшая частью Австро-Венгерской империи, являлись противниками. РСФСР не принимала участия в версальском мирном урегулировании, в процессе которого были выработаны договоры с побежденными странами, включая Венгрию после распада империи (Трианонский мирный договор 1920 г.), однако Октябрьская революция 1917 г. некоторым образом сказалась на судьбе Венгрии. Ядро Венгерской коммунистической партии, пришедшей к власти в Венгрии в марте 1919 г. и провозгласившей Венгерскую Советскую Республику (ВСР; 21 марта – 6 августа 1919 г.), образовалось осенью 1918 г. именно в Москве из бывших военнопленных и эмигрантов. Предложение Б. Куна об установлении союза ВСР и РСФСР в целях противодействия Антанте в сложной для советской России ситуации Граж- данской войны и иностранной интервенции не могло быть претворено в жизнь, и Венгерская Советская Республика, оставшись без должной поддержки, прекратила существование вследствие румынского вторжения.
В период диктатуры М. Хорти 1921– 1944 гг. советско-венгерские отношения носили неоднозначный, но преимущественно конфронтационный характер. Изначально на них существенно влиял политико-идеологический фактор. Как отмечает Н. Ким, венгры проявили большой интерес к русской «белой» эмиграции, имевшей те же политические устремления, что и пришедшее к власти после ликвидации ВСР правительство Миклоша Хорти. Однако их полномасштабное сотрудничество не состоялось. Венгерские консервативные политические силы после закрепления у власти и признания их международным сообществом уже не нуждались в таких помощниках для реализации своих целей, а в среде русской эмиграции со временем разрослись внутренние противоречия [15, 136 ].
Дипломатические отношения между Венгрией и СССР были установлены только в 1934 г. Участие хортистской Венгрии в разделе Чехословакии, агрессии против Югославии и вступление в войну против Советского Союза на стороне нацистской Германии (с 27 июня 1941 г.) привели к их разрыву. После народно-демократической революции 28 декабря 1944 г. Венгрия объявила войну Германии и 20 января 1945 г. заключила перемирие с СССР и его союзниками (мирный договор был подписан 10 февраля 1947 г.). В марте 1945 г. территория Венгрии была освобождена Красной армией от сил салашистов и вермахта. 25 сентября 1945 г. советско-венгерские дипломатические отношения были восстановлены и учреждены дипломатические представительства: СССР – в Будапеште и Венгрии – в Москве, со 2 марта 1948 г. получившие статус посольств.
В 1978 г. в Ленинграде открылось Генеральное консульство Венгерской Народной Республики (ВНР). Советское Ге- неральное консульство начало работу в г. Дебрецене ВНР в 1981 г.
Между СССР и ВНР были заключены межгосударственные договоры, межправительственные и иные соглашения в разных сферах взаимодействия: Договор о торговле и мореплавании (15 июля 1947 г.); договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (18 февраля 1948 г. и 7 сентября 1967 г.), соглашения о правовом статусе советских войск, временно расположенных на территории ВНР (27 мая 1957 г.), о сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки (17 апреля 1959 г.), об условиях взаимного обучения студентов и аспирантов в гражданских вузах и НИИ (4 ноября 1960 г.), о сотрудничестве в области социального обеспечения (20 декабря 1962 г.), об образовании межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству (3 декабря 1964 г.), о сотрудничестве в области радиовещания и телевидения (28 мая 1965 г.), о международном автомобильном сообщении (19 марта 1966 г.), о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции в ВНР (28 декабря 1966 г.), о сотрудничестве и кооперировании в производстве и поставке легковых автомобилей и комплектующих изделий (24 октября 1968 г.), о культурном и научном сотрудничестве (16 ноября 1968 г.), о воздушном сообщении (2 декабря 1968 г.), о сотрудничестве в области туризма (29 января 1971 г.), о сотрудничестве в строительстве нефтеперерабатывающего завода в ВНР (24 мая 1971 г.) и газопровода (16 ноября 1971 г.), о сотрудничестве в области связи (13 октября 1972 г.) и др. [4].
В целом, послевоенный период оказался самым насыщенным в истории двусторонних отношений наших стран. Между ними была установлена максимальная степень «плотности контакта», имея в виду общую границу между ВНР и Украинской ССР в составе Советского Союза (впервые со времен Мадьярского королевства и Древней Руси), а также включение ВНР в советскую сферу влияния, блоковую систему и соответствующие организации военно-политической и экономической направленности – ОВД и СЭВ. Если в давние времена в более благоприятном положении находилась Венгрия, достаточно мощная по европейским меркам держава, в чьей зоне интересов находились многие другие государства, поскольку древнерусские земли уже вступили в эпоху феодальной раздробленности, то в биполярную эпоху СССР как сверхдержава, безусловно, доминировал над ВНР. Их отношения, декларируемые как дружественные, носили неравноправный характер и, наряду с положительной динамикой, проявлявшейся в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отличались наличием кризисных моментов, обусловленных прежде всего политикоидеологическими разногласиями (Венгерское восстание 1956 г.6 и др.).
В период нахождения у власти Я. Кадара (1956–1988 гг.), несмотря на укрепившуюся зависимость ВНР от СССР, «патрона и союзника», по словам В. Л. Мусатова (в 2000–2006 гг. Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Венгрии), Венгрия смогла добиться хороших социально-экономических результатов и преодолеть внешнеполитическую изоляцию. Российский дипломат, солидаризируясь с мнением британского исследователя Р. Гау, считавшим, что Я. Кадар «умело выступал на международной арене» и следил за тем, чтобы не противопоставлять тесные отношения с Советским Союзом необходимости поддерживать политические контакты, экономические и финансовые связи с капиталистическими странами, подчеркивает, что Я. Кадар «был прежде всего венгром, а потом уже коммунистом-интернационалистом» [15, 25–26 ].
После «бархатной революции» 1989 г. и роспуска ОВД и СЭВ начались постепенное и неуклонное взаимное охлаждение и снижение степени и уровня контактов. Венгерская Республика, подобно другим бывшим странам «народной демократии», взяла курс на евроатлантиче- скую интеграцию. Постсоветская Россия в свою очередь в духе «доктрины Козырева», продолжая логику политики «нового мышления», провозгласила свободу действий стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Совокупность причин политико-идеологического, социальноэкономического и иного плана в контексте постсоциалистических трансформаций и геополитических перемен в постбиполярный период существенно скорректировали российско-венгерские отношения. 6 декабря 1991 г. Российской Федерацией и Венгерской Республикой был подписан базовый договор, определивший рамки системы межгосударственных отношений нового типа, свободных от идеологии и основанных на равноправии сторон, общих интересах и взаимной выгоде. Примечательно уточнение, внесенное в преамбулу договора письмами министров иностранных дел Венгерской Республики Г. Есенски от 29 января 1992 г. и Российской Федерации А. В. Козырева от 5 февраля 1992 г. Мотивация принятия договора была расширена ссылками на «общее стремление преодолеть наследие тоталитаризма» и осуждение вторжения в Венгрию в 1956 г., приведшего «к подавлению демократических устремлений ее народа»7.
Вместе с тем в ходе визита Президента России В. В. Путина в Будапешт 28 февраля – 1 марта 2006 г. и российская, и венгерская стороны сочли необходимым указать на нежелательность артикуляции данной темы. Так, В. В. Путин отметил, что не считает, что «сегодняшняя современная Россия несет ответственность за решения, которые Президент Ельцин осудил от имени российского руководства еще в 1992 г. Но, конечно, мы видим сегодняшнее отношение к этим острым вопросам венгерского народа и современного венгерского руководства, которое, повторяю, не политизирует их, не использует их для накачки сво- их внутриполитических мышц, не пугает этим свое население и не занимается ан-тироссийской риторикой. Это создает… условия для того, чтобы мы могли сегодня сказать: да, мы понимаем моральнонравственные аспекты 56-го года и чувствуем их. И с этим чувством мы хотим, тем не менее, думать о будущем. Будем это делать вместе с венгерским народом». Премьер-министр Венгрии Ф. Дюрчань подчеркнул: «…либо мы хотим погрязнуть в прошлом, либо у нас есть желание решить проблемы»8.
Однако 1990-е гг. в российско-венгерских отношениях нередко характеризуются как десятилетие потерянных возможностей. С российской стороны интерес к Венгрии и в целом в отношении стран ЦВЕ в постсоветский период во многом был утрачен. Приоритетом Венгрии в тот период выступало евроатлантическое направление. Была поставлена цель политического и экономического сближения с НАТО и ЕС, а затем вступления в эти организации. С конца 1990-х гг. интеграция Венгрии в евроатлантические структуры, особенно в НАТО, стала восприниматься в России отчетливо негативно. Кульминация обострения отношений проявилась накануне и в ходе косовского кризиса 1999 г. Охлаждение отношений отразилось и на сфере политико-дипломатических контактов вплоть до 2002 г. (в частности, в ходе косовского кризиса РФ отзывала из Будапешта в Москву посла для консультаций, были перенесены или отменены некоторые официальные визиты и т. п.)9.
Директор Русского центра в Будапеште Д. Свак, председатель Венгерско-российского общества культуры и дружбы, констатирует, что внешне «хорошие отношения» сложились «на пустом месте», в вакууме, и сохранялись до нача- ла 2000-х гг. В начале же 2000-х гг. венгерская сторона предприняла серьезную попытку заменить «ничто» на «нечто», а российская сторона проявила себя «отзывчивым партнером», хотя атлантист-ский фактор сохранял значение для Вен-грии10.
Таким образом, в постсоветский период прежняя политика патернализма СССР по отношению к Венгрии была замещена, по сути, политикой равноудаленного дистанцирования 1990-х гг., негативные последствия которой отчетливо проявились и были осознаны сторонами в начале 2000-х гг., когда российско-венгерские отношения обрели «новое лицо».
Заключение
Российско-венгерские отношения имеют наиболее обширную историю в сравнении с другими странами финно-угорского мира. Их развитие было неравномерным: на всем протяжении более чем тысячелетней эволюции отмечались периоды и сближения, и отчуждения, и даже открытого противостояния, как в годы Первой и Второй мировых войн. Обобщая, можно выделить следующие основные этапы:
-
1) становление русско-венгерских отношений (IX–XI вв. – 1526 г.), когда они выстраивались напрямую, без посредничества других игроков, одновременно характеризуясь переплетением интересов великих держав той эпохи; вместе с тем их развитие не было плавным и введенным в строго определенные рамки постоянно действовавших договоров и соглашений;
-
2) включенность русско/российско-венгерских отношений в систему отношений Русского/Российского государства / Российской империи и Габсбургской державы / Австро-Венгерской империи (1526–1917/1918), выстраивавшихся в целом сложно, несмотря на общность интересов по турецкому вопросу; в итоге перевесили разногласия по Балканам и
- некоторым другим направлениям внешней политики, приведшие стороны накануне Первой мировой войны в станы противоположных международных союзов;
-
3) формирование советско-венгерских отношений (1918–1991 гг.), в начале бывших по большей части напряженными и конфронтационными, особенно в период диктатуры М. Хорти, но в послевоенный период достигших кульминации с точки зрения вхождения в единую блоковую систему; вместе с тем наряду с большой плотностью взаимных контактов в политико-идеологической, социальноэкономической и иных областях, они носили союзнический характер нередко формально и содержали элементы конфликтности и патернализма;
-
4) складывание российско-венгерских отношений нового типа, свободных от идеологии и основанных на равноправии сторон, общих интересах и взаимной выгоде (с 1991 г.). Однако в постбиполярный период на практике были утрачены многие достижения предшествовавшей эпохи, в том числе наблюдалось свертывание торгово-экономических связей, на передний план выдвинулись различия во внешнеполитических ориентациях и геополитических стратегиях. Начало преодолению негативных последствий во взаимных отношениях было положено в 2002–2006 гг., когда на самом высоком уровне стороны отказались от акцентирования сложных страниц истории. Тем не менее в российско-венгерских отношениях вновь проявился фактор медиации ввиду вхождения Венгрии в евроатлантические структуры.
В целом, сейчас отношения России и Венгрии можно рассматривать как достаточно показательные, даже модельные, в плане успешного преодоления исторических и прочих разногласий и противоречий. Они демонстрируют позитивную динамику, базируются на прагматизме, взаимном учете интересов и уважении друг друга, интерпретируются как конструктивные и сбалансированные. Политические «ограничители» (прежде всего членство Венгрии в ЕС и НАТО) не стали в них доминан-
(Гц) ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ тами. Стороны обращают приоритетное внимание на те направления, где у них имеются точки соприкосновения, обусловленные приверженностью общим ценностям и объективно понимаемыми национальными интересами. В пер- вую очередь это сферы урегулирования международных конфликтов и кризисов, продвижения высоких технологий и инноваций, топливно-энергетический сектор, а также межкультурный диалог и межцерковные связи.
Поступила 01.03.2018, опубликована 07.06.2018
Список литературы Российско-венгерские отношения: этапы эволюции
- Бахлов И. В., Бахлова О. В. Становление империи: Габсбурги в европейской политике XV-XVIII вв.: [монография]. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. 205 с.
- Бахлова О. В. Венгерское королевство в условиях династического кризиса в доме Габсбургов и становления Австрийской империи (XVII-XVIII вв.): политико-правовые аспекты // Финно-угорский мир. 2009. № 2. С. 64-75.
- Волощук М. Русско-венгерские отношения эпохи Данила Галицкого: обзор венгерской историографии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История. 2005. Вып. 2. С. 3-14.
- Восточный блок и советско-венгерские отношения: 1945-1989 годы: сб. материалов конф. [отв. ред. О. В. Хаванова]. Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. 224 с.
- Желицки Б. Й. Кадаровский контекст советско-венгерских отношений, 1957-1988 // Россия и современный мир. 2006. № 1. С. 147-162.
- Калинин А. А. Венгерский вопрос в отношениях СССР, США и Великобритании в 1944-1946 гг. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2016. № 7. С. 5-14.
- Киселев М. В. Австрийский «Узел» во внешней политике Даниила Галицкого // Русин. 2015. № 1. С. 25-50.
- Киселев М. В. Внешняя политика Даниила Галицкого на рубеже 1240-х-1250-х годов // Исторический формат. 2015. № 4. С. 327-343.
- Колегов С. С. Дипломатические отношения России и Венгрии в первые годы XVIII века: несостоявшийся союз Петра I и Ференца II Ракоци // Научный диалог. 2017. № 5. С. 186-197.
- Кришто Д. Русские в Венгрии в эпоху династии Арпадов // Славяноведение. 2001. № 2. С. 22-30.
- Освободительная война 1703-1711 гг. в Венгрии и дипломатия Петра I: сб. ст. / [отв. ред. О. В. Хаванова]. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013. 280 с.
- Основные тенденции во взаимоотношениях России и стран Центрально-Восточной Европы / [отв. ред. И. И. Орлик]. Москва: ИЭ РАН, 2015. 426 c.
- Пристер Е. Краткая история Австрии. Ленинград: Изд-во АН СССР, 1952. 580 с.
- Российская империя и монархия Габсбургов в Наполеоновских войнах. Взгляд из Венгрии / [отв. ред. О. В. Хаванова]. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014. 256 с.
- Россия и Венгрия на перекрестках европейской истории: сб. науч. ст. / [отв. ред. И. В. Крючков]. Ставрополь, 2016. Вып. 2. 306 с.
- Фонт М. Венгерско-русские политические связи в ХII веке (1118-1199 гг.) // Центрально-европейские исследования. Вып. 2. Венгры и их соседи по Центральной Европе в Средние века и Новое время / Ин-т славяноведения РАН. Москва, 2004. С. 86-115.
- Юрасов М. К. Истоки мифа о создании Галицкого княжества венгерским королем Иштваном II для сводного брата Бориса Калмановича // Русин. 2017. № 1. С. 9-20.
- Юрасов М. К. Русско-венгерские отношения X-XI вв. // Труды Института российской истории РАН. 2017. № 14. С. 139-153.
- Aretin K. O. von. Das Reich: Friedensgarantie und europaeisches Gleichgewicht 1648-1806. Stuttgart: Klett-Gotta, 1986. 465 s.
- Goerlich E. J., Romanik F. Geschichte Oesterreichs. Innsbruck; Wien; Muenchen: Boehlau, 1977. 642 s.
- Walter F. Oesterreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500 bis 1955. Wien; Koeln; Graz: Boehlau, 1972. 320 s.
- Wandruszka A. Das Haus Habsburg (Die Geschichte einer europaeischen Dynastie). Wien; Freiburg; Basel: Austria-Edition, 1979. 216 s.