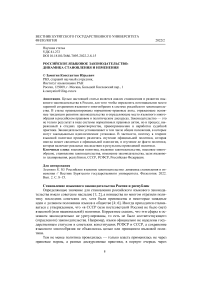Российское языковое законодательство: динамика становления и изменения
Автор: Замятин Константин Юрьевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
Целью настоящей статьи является анализ становления и развития языкового законодательства в России, для того чтобы определить потенциальное место гарантий сохранения языкового многообразия в системе российского законодательства. В статье проанализированы нормативно-правовые акты, отражающие основные тенденции развития законодательства и определяющие место языкового многообразия в российском правовом и политическом дискурсах. Законодательство - это не только результат в виде системы нормативных правовых актов, но и процесс, выраженный в стадиях правотворчества, правоприменения и наработки судебной практики. Законодательство устанавливает в том числе общие положения, в которые могут закладываться идеологические установки. В частности, поэтому в теориях языковой политики принято различать изучение официальной политики, которая иногда может сводиться к официальной идеологии, и изучение де факто политики, которая включает реальные последствия и результаты проводимой политики.
Языковая политика, языковое законодательство, языковое многообразие, становление законодательства, изменение законодательства, цели языкового планирования, республики, ссср, рсфср, российская федерация
Короткий адрес: https://sciup.org/148324139
IDR: 148324139 | УДК: 81.272
Текст научной статьи Российское языковое законодательство: динамика становления и изменения
Замятин К. Ю. Российское языковое законодательство: динамика становления и изменения // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2022. Вып. 2. С. 8‒15.
Становление языкового законодательства России и республик
Определяющее значение для становления российского языкового законодательства имело советское наследие [1; 2], а новшества во многом отразили политику последних советских лет, хотя были привнесены и некоторые западные идеи о должном положении языков в обществе [4; 6]. Иногда приходится сталкиваться с утверждением, что «в СССР (или постсоветской России) не было (нет) языковой (или национальной) политики. Корректнее сказать, что эти сферы в основном законодательно не урегулированы, то есть не было соответствующего (отраслевого) законодательства. Например, языки официально не наделены государственным статусом в советских конституциях РСФСР и СССР, а сохранение языкового многообразия не объявлялось целью или принципом языковой политики.
Тем не менее политика проводилась — только власть применялась не через правовые нормы, а разные дискурсивные практики, в первую очередь через идеологический дискурс. Например, положение языков на практике зависело от их статуса в качестве «языков, общеупотребительных в союзных республиках», «языков АССР», а политика строилась, особенно в позднесоветское время, на принципе невмешательства (laissez faire), в результате чего накопилось немало проблем в сфере межнациональных отношений.
Когда в ходе начавшихся преобразований возник вопрос о формировании (новой) языковой политики и определении ее целей, практика законодательного регулирования сперва стала складываться в союзных республиках [2; 8]. Первым общесоюзным законодательным актом, детально урегулировавшим языковые вопросы, стал Закон СССР «О языках народов СССР» от 26 апреля 1990 г. К народам СССР относили народы, которые «традиционно проживали на территории СССР» и «не имели своих государственных образований за его пределами». Закон признал право союзных и автономных республик иметь свои государственные языки и закрепил статус русского языка как официального языка СССР. Кроме того, закон закрепил возможность принятия программ сохранения, изучения и развития языков народов СССР (Ст. 5), которые предусмотрели бы гарантии поддержки языков, в частности в форме «пропаганды родного языка и других языков», т. е. планирование престижа. Также предусмотрена ответственность за нарушение закона1.
На момент принятия закона несколько союзных республик уже имели свои законы и государственные языки, а после его принятия не только остальные союзные республики, но и почти все автономные республики также провозгласили свои государственные языки в декларациях о государственном суверенитете в 1990–1991 гг. В эти же годы некоторые автономные республики приняли также законы о языках (например, Чувашская, Якутская, Калмыцкая АССР), а вскоре стали принимать и программы сохранения и развития языков [9].
РСФСР в своей Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 г. в отличие от других союзных республик не провозгласила государственные языки. Государственный суверенитет декларировался для обеспечения каждому человеку неотъемлемого права на пользование родным языком, а каждому народу права «на самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных формах». Декларация также провозгласила гарантии прав «представителям наций и народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих национально-государственных образований или не имеющим их на территории РСФСР» (пп. 4, 10).
В 1990 г. в РСФСР не был принят закон о языках из опасений, что он может спровоцировать дальнейшие центробежные процессы. Декларация «О языках народов России» и Закон РСФСР «О языках народов РСФСР» были приняты только 25 октября 1991 г., когда грядущий распад СССР стал очевиден2. Декларация «О языках народов России» провозгласила права граждан на свободное использование языков и равные возможности для сохранения, изучения и разви- тия, государственную поддержку всех языков народов России, а значит, являет собой идеологический документ, актуальный в контексте сохранения языкового многообразия страны. Закон РСФСР 1991 г. стал основополагающим актом российского языкового законодательства.
Закон закрепил основные положения в языковой сфере, которые во многом остаются в силе и по сей день. В законе закреплен, среди прочего, статус русского языка как государственного языка всей страны, а также право автономных республик иметь свои государственные языки. В целом закон стал скорее рамочным документом, который установил направления и ограничения для федеральных и региональных властей в проведении их собственной языковой политики, но не установил ни обязанностей по реализации своих положений, ни ответственности за несоблюдение своих положений. Единственная предусмотренная прямая обязанность органов власти по обеспечению написания наименований географических объектов и оформления надписей, дорожных и иных указателей на языках (ст. 25) не была включена в профильный федеральный закон.1 Отдельно закон предусмотрел возможность разработки и принятия как федеральных, так и региональных программ сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации, определил их основные направления (Статья 7). В то же время такая федеральная программа не была принята, а также не были созданы ни Институт языков народов, ни государственная служба языковых переводов2.
Вслед за российским законом большинство республик также приняло свои законы о языках, которые установили целью «возрождение» в первую очередь титульных языков. Для достижения этой цели некоторые законы установили, в частности, обязательность изучения титульных государственных языков в школе всеми учащимися независимо от национальности и языковые требования для отдельных категорий должностных лиц. Программы республик и автономных округов стали приниматься с 1993 г. и также были в первую очередь направлены на сохранение и развитие языков «титульных» народов.
Подразумевалось, что языки народов и групп, проживавших за пределами «титульных образований» или таковых не имевших, должны будут пользоваться прежде всего поддержкой федеральных программ. Были предприняты меры по разработке таких федеральных программ, которые, как уже было отмечено, не были приняты3.
Закон Российской Федерации «Об образовании» 1992 г. предусмотрел право граждан на получение образования на родном языке и его изучение, однако, не- смотря на формулировку, было закреплено, по сути, не индивидуальное, а коллективное право, которое осуществляется только «в рамках возможностей, предоставляемых системой образования»1.
Конституция Российской Федерации 1993 г. также закрепила статус русского языка как государственного языка всей страны, признала право республик иметь свои конституции и государственные языки (ст. 68). Положения, регулирующие использование языков, также были включены в законодательство о выборах и референдумах, об отраслях судопроизводства, на транспорте и связи и т. п.
Цели языкового планирования
Таким образом, российское законодательство и языковая политика отражают тот факт, что Россия — многонациональная и многоязычная страна. Законодательство признает ряд прав, в том числе право на свободное использование языков народов России, и запрет дискриминации, в том числе по языковому признаку, но в то же время допускает обязательное использование языков с государственным статусом и их приоритетную поддержку. Также законодательство провозгласило равноправие всех языков народов России и гарантии их сохранения и развития, но в то же время закрепило статус государственного языка России, а также государственных языков республик, то есть определенную иерархию языков. При этом законодательство не определяет целью или ожидаемым результатом языковой политики достижение двуязычия и многоязычия [6].
В зависимости от функции языкового планирования принято различать цели языкового возрождения, сохранения и развития, а также распространения языков. Распространение некоторых языков часто достигается за счет языкового сдвига с других языков и в этом смысле препятствует их сохранению. Однако оно может быть реализовано без утраты языков через сохранение и распространение многоязычия. В этом контексте постсоветская российская языковая политика преследует цели, с одной стороны, распространения русского языка, а с другой стороны, сохранения и развития других языков. При этом если на уровне официального дискурса эти цели не рассматриваются как противоречащие друг другу, то на уровне общепринятых представлений (common sense) и практик языковая политика обычно предстает как «игра с нулевой суммой», в которой «если один язык выигрывает, то другой проигрывает». В данном случае «победителем» оказывается русский язык, а все остальные языки оказываются «аутсайдерами».
В теориях языковой политики различают подход, основанный на соблюдении прав человека, и подход, основанный на проведении государственной языковой политики. При первом подходе языковое законодательство включает языковые права, которые ограничивают сферу государственной политики. Для успешности такого подхода необходимо сильное правовое государство. При втором подходе государственная языковая политика облачается в правовую форму и реализуется в том числе через языковое законодательство.
Анализ российского законодательства показывает, что оно признает ряд индивидуальных прав, в первую очередь «негативных прав», требующих только правоохранительных действий государства, но не проактивной политики для их реализации. К ним относится, например, запрет на дискриминацию по языковому признаку. Однако в России возобладал подход, основанный на проведении государственной политики, при которой принятие реальных мер во многом обусловливается дискреционным усмотрением чиновников. Более того, такой подход зависит от политических изменений.
Динамика изменения языкового законодательства
В целом после своего становления в начале 1990-х гг. законодательство оставалось относительно стабильным, поскольку были урегулированы только наиболее общие принципы и подходы, в то время как реальный политический процесс был спущен, с одной стороны, на уровень федеральных программ и подзаконных актов, с другой стороны, на уровень регионального законодательства.
С середины 1990-х гг. стал применяться программно-целевой метод планирования и финансирования через федеральные целевые программы в статусе федеральных законов. Одной из первых с 1996 г. стала регулярно приниматься федеральная целевая программа «Русский язык», последняя из которых действовала до 2020 г.1
Исключение составляют несколько сфер, в которых на федеральном уровне по сей день ведется интенсивная законодательная работа: продвижение русского языка в стране и за рубежом, языки в образовании, тестирование знания русского языка иностранными гражданами и мигрантами, а также языки и цифровизация.
В частности, законодательство, регулирующее сферу информации и информационных технологий, регулирует порядок осуществления ряда прав, в том числе языковых, например, право на доступ к информации на родном языке. Однако основным способом регулирования также продолжает оставаться статусное планирование, которое распространяется и на использование языков в социальных сетях2. Право на доступ в Интернет, с одной стороны, примыкает к правам свободного выражения, открытого доступа к информации и другим правам и является одним из условий их реализации, с другой стороны, предполагает наличие технической инфраструктуры, таким образом составляет самостоятельное право, которое само по себе не создает новых языковых прав. Создание технической инфраструктуры включает, например, языковые пакеты для всех компьютеров в определенном регионе, информационные системы и т. п.
Элементом регулирования языковых конфликтов является информационная система мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 1.
Отраженные в законодательстве амбивалентные идеи и цели языковой политики до недавнего времени позволяли на основе компромисса учитывать разные интересы и положение языков. Однако в последние десятилетия вслед за политическими изменениями наметились тенденции, изменяющие баланс между языками России.
С начала 2000-х гг. конфигурация баланса политических сил изменилась в сторону централизации и укрепления «вертикали власти». При этом больше усилий требуется для продвижения русского языка как основной цели федеральной языковой политики. В 1998 и 2002 гг. были внесены изменения в закон о языках: изъяты некоторые положения, касавшиеся использования других языков, и установлена обязательная кириллическая основа для государственных языков республик. Перестали применяться положения конституций республик о языковых требованиях к кандидатам на пост глав республик. В 2004 г. Конституционный суд РФ запретил Республике Татарстан переводить государственный татарский язык на латинскую графику, но разрешил продолжить обязательное преподавание государственных языков республик.
В 2005 г. был принят федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», который впервые закрепил сферы обязательного использования русского языка как государственного языка РФ2. Согласно ст. 1 п. 4 русский как государственный язык должен способствовать «взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве».
В последние годы особенно интенсивно стала вестись работа по продвижению русского языка, в том числе в области образования и планирования корпу-са3. С одной стороны, русский язык пользуется теперь приоритетной поддержкой внутри страны и за рубежом не только как государственный язык Российской Федерации, но и как «язык государствообразующего народа», с другой стороны, статус других языков народов России снизился, в результате чего их положение ослабло. Параллельно шло усиление негативных тенденций в положении языков, в первую очередь в образовании. В результате реформы образования был не только отменен национально-региональный компонент образовательных стандартов, но и свернуто право на получение образования на родном языке поправками к Федеральному закону об образовании 2013 и 2018 гг. [3, с. 119–120].
Это нашло отражение не только на уровне правотворчества, но и правоприменения и судебной практики. Так, анализ судебной практики показал, что с 2008 г. судебные решения начали ограничивать использование национальных языков в делопроизводстве, а с поправкой в Конституции 2014 г., согласно которой Президент РФ назначает и освобождает от должности прокуроров субъектов, они стали проводниками центральной политики сужения использования национальных языков [3, с. 123–126].
Результаты такой политики отражаются даже в данных переписей населения [7]. При этом если в республиках и автономных округах языковая политика этих территориальных единиц позволяет сдерживать интенсивность языкового сдвига, то в других регионах этот процесс идет особенно быстро [10]. Как следствие, в обществе усилилась обеспокоенность судьбой языков, распространился языковой активизм и все настойчивее стали выдвигаться требования гарантий сохранения языкового многообразия [5].
Список литературы Российское языковое законодательство: динамика становления и изменения
- Алпатов В. М. 150 языков и политика: 1917-2000. Москва: Изд-во Ин-та востоковедения РАН, 2000. 224 с. Текст: непосредственный.
- Губогло М. Н. Языки этнической мобилизации. Москва: Языки русской культуры, 1998. 811 с. Текст: непосредственный.
- Одинг Н. Ю., Юшков А. О., Савулькин Л. И. Использование национальных языков как государственных в республиках РФ: правовые и экономические аспекты // Terra Economicus. 2019. № 17(1). С. 112-130. Текст: непосредственный.
- Осипов А. Г., Сапожников Р. В. Законодательство РФ, имеющее отношение к этничности. Концептуальные основы, содержание, проблемы реализации (Справочный материал). Проблемы правового регулирования межэтнических отношений и антидискриминационного законодательства в Российской Федерации. Москва, 2004. С. 162-208. Текст: непосредственный.
- Arutyunova E. & Zamyatin K. An Ethnolinguistic Conflict on the Compulsory Learning of the State Languages in the Republics of Russia: Policies and Discourses // The International Journal of Human Rights, 2021. Vol. 25(5). P. 832-852.
- Zamyatin K. The Evolution in Language Ideology of Post-Soviet Russia: The Fate of the State Languages of the Republics // Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union.Comparative Studies on Equality and Diversity Series: Multilingual Education, 2015. Vol. 13. H. F. Marten, M. Rieftler, J. Saarikivi & R. Toivanen (eds.). London: Springer International. P. 279-313.
- Zamyatin K. A Russian-Speaking Nation? The Promotion of the Russian Language and Its Significance for Ongoing Efforts at the Russian Nation-Building // The Politics of Multilingualism: Linguistic Governance, Globalisation and Europeanisation. F. Grin and P. A. Kraus (eds). Amsterdam: John Benjamins, 2018. P. 39-64.
- Zamyatin K. The Adoption of Language Policies in the Republics of Russia: Actors, Debates, Decisions // Sociolinguistics. 2020. Vol. 2 (2) [online]. P. 30-66.
- Zamyatin K. The Formation of Language Policies in Russia's Republics in the Early 1990s: Ideologies, Interests, Institutions // Sociolinguistics. 2021. Vol. 2(6) [online]. P. 61-127.
- Zamyatin K. Language Policy of Russia: Uralic Languages // Oxford Guide to the Uralic Languages. J. Laakso, E. Skribnik & M. Bakro-Nagy (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2022. P. 79-90.