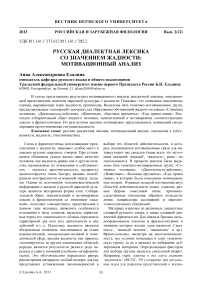Русская диалектная лексика со значением жадности: мотивационный анализ
Автор: Едалина Анна Александровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены результаты мотивационного анализа диалектной лексики, описывающей представления носителя народной культуры о жадности. Показано, что семантика лексических единиц, выражающих идею жадности, производна. Выделены пять тематико-мотивационных групп, предоставляющих «донорский» материал для образования обозначений жадного человека: «Соматика человека», «Деятельность/действия», «Животные», «Бытовые предметы», «Еда, прием пищи». Воссоздан собирательный образ жадного человека, запечатленный в мотивировках соответствующих лексем и фразеологизмов. По результатам анализа мотивировок представленных номинаций смоделирована прототипическая ситуация жадности.
Русская диалектная лексика, мотивационный анализ, отношение к собственности, жадность, этнолингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14729208
IDR: 14729208 | УДК: 811.161.1’373.612:811.161.1’282.2
Текст научной статьи Русская диалектная лексика со значением жадности: мотивационный анализ
Слова и фразеологизмы, воплощающие представления о жадности, занимают особое место в лексике русских народных говоров. При устоявшемся общинном укладе жизни такое качество человека, как жадность (равно как и другие качества, проявляемые по отношению к собственности, – скупость, расточительность, щедрость), диагностируется очень быстро, являясь своеобразным контрапунктом отношений между людьми. Одним из источников этнолингвистической информации о жадном в русской народной культуре является внутренняя форма слов. Собирательный образ, запечатленный в мотивировках лексем и фразеологизмов со значением «жадный», позволяет «овеществить» представления о данном типе человека, прояснить особенности отношения к нему социума, выделить характерные черты его «типического» облика, определить характерный для него род деятельности и вид действий и т. д. Поскольку жадность является абстрактным понятием, находящимся на стыке имущественной, эмоционально-волевой и поведенческой сфер, лексика жадности, как правило, «кооптируется» из других лексических областей, нередко является результатом разного рода переноса и сдвига значений (особенно метафорического). Это обстоятельство определило ракурс рассмотрения материала: особый интерес для нас представляет установление закономерностей в выборе тех областей действительности, в которых отыскиваются мотивационные связи для интересующих нас смыслов (чаще всего это источники значений ‘жадный’, ‘жадность’, реже – их «наследники»). В процессе анализа были выделены пять тематико-мотивационных групп: «Соматика человека», «Деятельность/действия», «Животные», «Бытовые предметы», «Еда, прием пищи», в которые были помещены мотивационные модели. В рамках моделей соотнесение двух областей действительности может означать разные формы смысловой связи: причинноследственные отношения, образное отождествление, направление ассоциаций и народноэтимологических сближений.
Материал извлечен из различных диалектных словарей русского языка, а также словарей диалектной фразеологии. Для анализа брались цель-нооформленные лексемы и фразеосочетания, в значение которых входит сема жадности (‘жадность’, ‘жадный человек’, ‘жадничать’ и др.). Фразеологизмы, несмотря на многокомпонент-ность, мы условно помещаем в одну тематическую группу (а не в разные) во избежание дублирования материала. Определяющим фактором для выбора группы является смысловой акцент. Например, перм. идиома в два горла хватать ‘жадничать’ (ФСПГ, 391) содержит три актуальные идеи для передачи представлений о жадно- сти: во-первых, через соматический образ горла метафорически иллюстрируется связь между представлениями о пище и о жадности; во-вторых, обозначено активное действие, направленное к себе, - хватать, в-третьих, представлена идея увеличения (потенциально накопления), выраженная числительным два. Первая составляющая, на наш взгляд, является самой значимой, поэтому мы помещаем фразеологизм в мотивационную модель «такой, кто активно работает горлом ^ жадный».
Вначале охарактеризуем два базовых «выразителя» семантики жадности в русском языке -слова жадный и алчный , которые имеют древнюю историю. Согласно этимологическим источникам, слово жадный восходит к общеслав. * z^dati ‘жаждать, испытывать жажду’ (ср. укр. жадати ‘сильно желать чего-л.’, болг. жъден , жеден ‘жаждущий’, с.-хорв. жедан ‘испытывающий жажду’, словен. zejen , польск. zqdny ‘жаждущий’) [Черных 1: 290]. Слово алчный появилось из ст.-слав. ал(ъ)чьнь = лачьнъ 'голодный’ < прасл. * о1сьпъ (jь ) от * olciti /* olcati 'голодать, жаждать’, ср. с.-хорв. уст. лачан , лȁчнû , словен. láčən , чеш. lačný ‛голодный’ [ЭССЯ 32: 52]. Этот исторический экскурс позволяет выявить исконные составляющие семантики слов жадный и алчный , которые очень хорошо проявляются и на современном уровне. Речь идет, во-первых, о страстном и настойчивом желании чего-либо, потребности в чем-либо, что является ключевой характеристикой психофизического состояния жадного человека, а во-вторых, об объекте такого желания, пище (значения ‘голодный’, ‘испытывающий жажду’1). В русских говорах обе основы, алк- и жад- , весьма продуктивны, о чем говорит большое количество словообразовательных и фонетических дериватов: диал. шир. распр. алóшный ‘алчный, жадный, ненасытный’ (СРНГ, 1, 240), влад. алошничать ‘быть ненасытным, жадным’ (СРНГ, 1, 240), перм., вят., костром. áлшный, во-лог. áлушный, волог. áвушный, волог. áвшный ‘алчный, жадный, ненасытный человек’ (СРНГ, 1, 241), сев.-рус. авошной, авошный ‘алчный, жадный’ (СГРС, 1, 12), перм. ашный ‘алчный, жадный, ненасытный’ (СПГ, 1, 9), сев.-двин. жад , краснояр., енис. жадёна , пск. жадица , смол. жáдливый , яросл. жадёра , влад., курск., твер., яросл. жадёба ‘жадный, ненасытный человек’ (СРНГ, 9, 57), диал. шир. распр. жадоба , пск., смол. жадник ‘жадный человек’ (СРНГ, 9, 58), арх. ожадиться, киров. ожадовать, вят. ожадоветь ‘стать жадным’ (СРНГ, 23, 71), дон. сжадовáть ‘пожадничать’ (СРНГ, 37, 258) и мн. др.
Далее приводится более прозрачный в мотивационном плане материал, который представлен в соответствии с ранее обозначенными тематическими группами.
Соматика человека
В номинациях, построенных на соотнесении лексики поля «Жадность» со словами, обозначающими физические данные человека, особое внимание уделяется рукам и глазам .
Руки выступают как орудие хватания, «загребания»: пск. руки грабущие ‘кто-либо падок до чужого, жаден’ ( У тати глазы завистливы, руки грабущи ) (СПП, 67), карел. руки к себе гнутся ‘о стремлении к наживе, личному обогащению’ (СРГК, 5, 578), калуж. воберучьи ‘с жадностью, алчно’ (СРНГ, 4, 326).
Особенностью употребления лексем и фразеологизмов, отсылающих к образу глаз, является выход в эмоционально-волевую сферу. В семантической структуре слова глаза сема «смотреть» продуцирует сему «желать увиденное»; при этом актуализируются различные способности и качества жадного человека: его хищнический характер - твер. совиные глаза ‘о жадном, скупом человеке’ (СРНГ, 39, 188), желание присваивать себе что-либо - сибир. загребастые глаза ‘жадный, скаредный человек’ (ФСРГС, 42), способность видеть, что есть у других (далеко, за пределами своего хозяйства), - карел. долги глаза ‘жадные, завистливые глаза’ (СРГК, 1, 336), перм. нахватать на шары ‘набрать, нахватать чего-либо сверх меры, с жадностью’ ( Не потому, что имеется в том нужда, а потому, что глаза не сыты ) (СРНГ, 20, 258). Ту же идею опосредованно выражает зафиксированный на территории Карелии глагол торощиться ‘проявлять жадность, скупиться’ ^ ‘с завистью смотреть на что-нибудь, страстно желая овладеть чем-нибудь’ (СРНГ, 6, 496) (ср. литер. таращиться ‘смотреть, широко раскрыв глаза’), а также яросл. зарчивый ‘очень жадный, завистливый’ (СРНГ, 11, 12), арх. обзорять ‘жадничать, завидовать’ (СРНГ, 22, 55), моск. зазырить ‘увидеть, узреть с радостью и жадностью’ (СРНГ, 10, 99) и др., производные от глаголов зариться ‘смотреть на кого-нибудь, что-нибудь с завистью, с желанием иметь’ и зырить ‘смотреть’.
Активно разрабатываются в языке также образы горла, глотки и рта человека, т. е. тех органов, которые так или иначе участвуют в приеме пищи и её переработке, поскольку в народном сознании связь между представлениями о приеме пищи и жадности, как уже говорилось, является очень устойчивой и значимой 2. Продуктивна модель «такой, кто активно работает горлом, глоткой ^ жадный»: сибир. горло широкое ‘жадный, скаредный’ (ФСРГС, 47), сев.-рус. горлохвáт ‘жадный человек, стяжатель’ (СГРС, 3, 105), перм. в два горла хватать ‘жадничать’ (ФСПГ, 391), костром., яросл. глот ‘жадный человек’ (СРНГ, 6, 201), челяб. жглот ‘нелюдимый, жадный человек’ (СРНГ, 9, 93), сев.-двин. проглóт ‘жадный человек, любитель брать чужое’ (СРНГ, 32,108). Показательно орл. дубоглóт ‘жадный, ненасытный человек’ (СРНГ, 8, 238). Думается, что здесь идет речь о коре или плодах дуба, желудях, которые по причине бедности или, как показывает данная номинация, жадности, могут употребляться в пищу (ср. такие похожие способы утоления голода, как обгладывание коры у березы, жевание ремней, кожи). Особой экспрессией обладает карел. выражение жáдная пасть ‘о жадном человеке’, где пасть ‘горло, глотка, кадык’ (СРНГ, 25, 268).
Знаменательно использование в качестве мотивирующей основы лексемы ад , которая отсылает к общехристианской идее «адского пожирания» грешников, весьма актуальной в русской народной традиции (см. подробнее об этом: [Бе-резович 2010]). По мнению Е.Л.Березович, логика семантической деривации здесь следующая: на базе основного для гнезда рус. ад мотивационного признака «то, что пожирает» появляется его «опредмеченный» вариант, образ горла, глотки (например, волог., перм. ад ‘пасть, горло, глотка, рот’), который находит в севернорусских говорах дальнейшее «акциональное» развитие в обозначениях ненасытного человека, обжоры и собственно действия пожирания (перм. áдовать ‘жадно поглощать’, áдгать ‘много, часто потреблять, поглощать’). На основе же семантики пожирания в русских говорах развиваются значения жадности и скупости: перм. ад ‘жадный человек’, волог. адéя ‘о жадном человеке’, адúда ‘о скупой, неряшливой женщине’, сев.-двин. áдик ‘об обжоре, пьянице, жадном человеке’, адúна ‘об обжоре, жадном человеке’, костром. адоват ‘скупой, скаредный’ и др. [там же: 44]. Отмечается также, что значительный вклад в формирование у гнезда ад - семантики жадности внесло явление аттракции ад ↔ жад -, «которая проявляется собственно в семантике вышеприведенных слов (‘есть с жадностью’), в рифме адина-жадина , в контекстах типа влг. “Адина, вот жадный-то” и др.» [там же].
В лексике и фразеологии, рисующей жадного человека и его поведение, встречается также образ живота: коми-перм. брушина ‘о жадном, прожорливом человеке’ (СРНГ, 3, 212), олон. избрюшничать ‘объедаться, жадничать в еде’ (там же, 12, 95), перм. мякинное брюхо ‘о жадном до еды человеке’ (ФСПГ, 18), краснодар. брюхо из семи овчин ‘о жадном до еды, прожорливом человеке’ (СРНГ, 3, 224), сибир. боле (больше) брюха (надо, съесть) ‘получить больше нормы; больше, чем следует’: «Есть же люди, к примеру, жадный кулак, больше брюха съест, получает больше, чем положено» (ФСРГС, 17).
Еда, прием пищи
Еда становится тем объектом жадности, по отношению к которому изучаемое качество диагностируется особенно быстро. Взаимодействие исследуемых областей проявляется в такой частной смысловой линии, как пищевое поведение жадного человека. В самом общем виде это отражено в модели «поглощающий еду → жадный»: пск. заéдный ‘жадный; злой’ (СРНГ, 10, 76), север. мироéдный ‘алчный, жадный’ (там же, 18, 172), пск. éдьмя (éдьми) есть ‘поглощать пищу с жадностью’ (СПП, 115).
Дальнейшую детализацию действий и состояний жадного человека в процессе еды (и далее – вне этого процесса) можно наблюдать в следующих моделях:
-
• «такой, кто жрет → жадный (в том числе в еде)»: челяб. жаркий ‘жадный’, перм., арх. жóрить ‘есть с жадностью’, волог., перм. жор-мя жрать ‘есть с жадностью’ (СРНГ, 9, 216– 217), новг. прожóр ‘о жадном, стремящемся захватить побольше человеке’ (там же, 32, 137), дон. обжóрчивый ‘неумеренный, жадный в еде’ (БТКДК, 327) и др.;
-
• «такой, кто берет большой кусок → жадный»: брян., орл. большекрóм ‘жадный, корыстный и завистливый человек’ , том., свердл. большекрóмный ‘то же’, сарат., пенз. большекрóмый ‘жадный, ненасытный’ (СРНГ, 3, 88), волог., влад., казан., ср.урал., нижегор. кромá ‘жадный, завистливый человек’ (СРНГ, 15, 274), где диал. шир. распр. крома, кромка ‘ломоть хлеба, краюха, горбушка’ (СРНГ, 15, 274–275);
-
• «голодный → жадный»: арх., свердл. голодáй ‘ненасытный, прожорливый, жадный человек’, яросл., нижегор. голодяй ‘то же’ (там же, 6, 314, 317);
-
• «несытый / ненасытный → жадный»: пск., смол. ненасытный ‘жадный, завистливый’, арх. нéнасыть ‘жадный человек’, литов., яросл. несытный ‘жадный, ненасытный’, перм. нéсыть ‘о жадном, алчном, корыстолюбивом человеке’ (там же, 21, 96, 171);
-
• «такой, кто имеет отличный аппетит → жадный»: сев.-рус. аппетитный ‘азартный, жадный’ (СГРС, 1, 19);
-
• «неразборчивый в еде ^ жадный». Возможно, сюда относится карел. румавый , румой ‘жадный и неразборчивый в еде’: «К питью да еде румавая телушка, очень жадская, много всего кушает» (СРГК, 5, 582–583), если предположить, что это слово производно от карел. румега , румага ‘мякина’ (там же, 582). В плане содержания эта версия основана на том, что мякину скармливают скоту; в плане выражения не очень ясна фонетико-словообразовательная сторона.
Особую смысловую нагрузку несет указание на пищевые предпочтения жадного человека, в частности, на употребление соленой и сладкой пищи. По наблюдениям Л.В.Куркиной, «в общем семантическом содержании слав. * sold - вполне определенно вырисовывается та линия семантического развития, которая связывает значения ‘сладкий, приятный на вкус’, ‘быть по вкусу, нравиться’, ‘желать, хотеть’, ‘жадный до еды’» [Куркина 1984: 290]. Развитие значения, по-видимому, шло по модели «сладкий / вкусный» ^ «любящий сладкую / вкусную пищу» ^ «любящий поесть» ^ «жадный до чего-л.» ^ «неразборчивый в еде», ср. солощий костром. ‘о лакомке, сладкоежке’, диал. шир. распр. ‘жадный во всем, алчный’, севернорус. солож до чего-л. ‘питающий сильное пристрастие к чему-л., падкий на что-л.’, олон. соложий ‘жадный, неразборчивый в еде’ (СРНГ, 39, 289), ряз. слущой ‘жадный на еду’ (там же, 38, 322).
Аналогичную цепочку развития значений можно предположить и у дериватов корня * sol(d) -, что было отмечено К.В.Пьянковой: «Несмотря на семантические расхождения, продолжения корней сол - // слад - // солод - в русском языке развивают одинаковое значение ‘иметь определенный вкус, делать вкусным’, апеллирующее к “генетической памяти” корня: корень * sol(d) - на праслав. уровне, по мнению многих этимологов, имел значение *‘вкусный, приправленный’» [Пьянкова 2008: 62]. Ср. волог. солозобка ‘о жадном, неразборчивом в еде человеке’: «Вот я солозоб, шибко люблю всё солёное; Этакой солозоб, всё пересолит»; «Мать моя со-лозобка, сахар ей ни к чему» (СРНГ, 39, 290).
Животные
Образы животных часто привлекаются для передачи идеи жадности, при этом актуализируются различные признаки. Так, мотивационные признаки «есть с жадностью», «быть ненасытным» легли в основу целого ряда номинаций, построенных на сравнении пищевого поведения жадного человека и пищевого поведения некоторых животных, в основном тех, которые являются эталонами прожорливости, ненасытности, ср.
лит. волчий аппетит , зверский аппетит . Ср. ряд фразеосочетаний: пск. не накормить как борова ‘о ненасытном, жадном на еду человеке, которого очень трудно насытить’ (СПП, 88), пить быком ‘о жадно, большими глотками и помногу пьющем что-либо человеке’ (там же, 89), жрать (сожрать) как волк (волки) ‘о жадно, алчно поедающих что-либо людях’ (там же, 90), пить жеребцом ‘о много и жадно пьющем человеке’ (там же, 95), вылакать как кот языком ‘о быстро и жадно выпившем или съевшем что-либо человеке’ (там же, 100), как курята ‘о жадно и много едящих что-либо детях’ (там же, 101), есть (ляпать) как поросёнок ‘о жадно, неразборчиво, быстро, взахлеб и причмокивая, неаккуратно едящем что-либо человеке’ (там же, 111).
Насильственный способ обретения собственности жадным дает такую черту, как «хищнический» характер, что решается через соответствующий набор образов животных и птиц: сев.-двин. вóрон ‘жадный, злой человек’ (СРНГ, 5, 111), твер. совиные глаза ‘о жадном, скупом человеке’ (там же, 39, 188), пск. обхватать как волки ‘о жадно, алчно захватывающих материальные блага людях’ (СПП, 92). Во всех анималистических номинациях присутствует семантика злости, которая наиболее ярко проявляется в лексеме собакин ‘прозвище жадного, наглого человека’ (орл.) (СРНГ, 39, 40), ср. разг. злой как собака .
Несколько иной ракурс при взгляде на жадного человека дает дон. сапа ‘о злом, хитром человеке, //о жадном человеке’ (БТКДК, 471), где первоначально сапа ‘змея, ящерица’. Акцент здесь смещается в сторону хитрости, когда желаемое можно получить и не имея большой силы. Мотив злости при этом сохраняется.
В диалектных обозначениях жадного человека представлен также образ жабы, ср. влг. жаба ‘жадный, скупой человек, скряга’ ^ ‘рот (обычно широко раскрытый)’ (СГРС, 3, 334). Интересующее нас значение поддерживается также глагольной формой перм. жабиться ‘жадничать, скупиться’ (СПГ, 1, 252). Опираясь на выводы Е.Л.Березович ([Березович 2007: 311–320]), можно утверждать, что значение ‘жадный человек’ мотивировано именно значением ‘рот, пасть’. Во-первых, «пасть жабы или лягушки (относительно большая и широко раскрываемая) становится лингвистически маркированной деталью ее облика», во-вторых, «некоторые лексические факты эксплицируют мотив ‘хватающая ртом’, ‘жующая’, ср. болг. жабя, жабвам, жабна ‘взять, схватить полной горстью’, жабя се ‘жевать так много пищи, что выступают слюни на губах’, рус. енис. жабать ‘есть, жрать (о живот- ных)’, жабонуть ‘выпить залпом’» [Березович 2007: 314]. Если же вспомнить о тесной связи в народном сознании представлений о жадности и приеме пищи, то семантический переход «рот ^ (есть, жрать) ^ быть жадным» получает дополнительное обоснование.
Бытовые предметы
В данной тематической группе представлена только одна модель: «емкость ^ жадный человек». При этом номинации опираются на такое свойство предмета, как объем, и главным признаком будет признак наполнения, например, арх. зобёнка ‘о жадном, завистливом человеке’ (СРНГ, 11, 323), вят. зобня ‘о жадном, прожорливом человеке’ (СРНГ, 11, 325), пск. как зобёнь ‘о хитром, жадном человеке’ (СПП, 97), где диал. шир. распр. зобня означает ‘корзина, лукошко, берестяной короб, кузов’ (СРНГ, 11, 324). Сюда же можно отнести перм. фразеологизм как в без-дённу кадочку ‘безмерно много, жадно (есть, пить)’ (ФСПГ, 154).
В число слов, передающих представления о жадности через образы бытовых емкостей, предметов быта, можно включить и ряз. омех ‘человек, чрезмерно много работающий ради накопительства, из жадности’: «Омех - все больше человеку надыть захватывать, зависной человек», ряз. омех напхать (наполнить) ‘о чрезмерной жадности’, ряз. омехом ‘с чрезмерной жадностью, стремясь взять, получить, достать как можно больше’ (СРНГ, 23, 202), ср. также сиб. омёха ‘котомка, кошелка’ (там же, 201). Восстанавливая здесь праслав. * оЬтехъ/*obmexa , ЭССЯ указывает, что это приставочное производное от техъ/*mexa [ЭССЯ 28: 58-59].
Деятельность/действия
Все действия, совершаемые жадным человеком, имеют две особенности: во-первых, они выполняются по направлению «к себе», имея категориальным смысловой компонент «брать» (в отличие от языкового «портрета» щедрого и расточительного человека, действия которого рисуются производными от давать, ср., к примеру, олон., арх., моск., пск. податный ‘добрый, щедрый’ (СРНГ, 27, 332)). Во-вторых, все действия жадного человека являются активными. При этом чаще всего благосостояние приобретается не при помощи собственных усилий, а путем присвоения чего-либо, принадлежащего другому субъекту. В связи с этим особое значение приобретает идея насильственного давления, оказываемого на других действием или эмоцией.
Самая общая мотивационная модель - «совершающий активное действие по направлению к себе ^ жадный», которая реализуется через указание на такие действия, как
-
• брать: олон. забериха ‘жадная женщина, любящая захватывать, брать себе больше других’ (СРНГ, 9, 253), карел. забористый ‘жадный, скупой’ (СРГК, 2, 84), онеж. обóрливый ‘жадный, способный обобрать другого’ (СРНГ, 22, 176);
-
• добывать: ряз. добычник ‘стяжатель, жадный, корыстный человек’ (СРНГ, 8, 83);
-
• хапать : самар., симб. захапистый ‘такой, который любит захватывать, присваивать чужое; жадный’ (СРНГ, 11, 143), хапом хапать ‘будучи жадным, корыстным, наживаться на чем-либо’ (ФСРГС, 209);
-
• хватать: твер. подхватливый ‘жадный’ (СРНГ, 28, 235), карел. хватистый ‘жадный’ (СРГК, 6, 708);
-
• цапать: ворон. зацапистый ‘стремящийся присвоить, захватить многое’, ‘загребущий’ (СРНГ, 11, 168);
-
• «п о д ч и щ а т ь» (забирать что-либо у другого полностью, до конца): яросл. подчищало ‘тот, кто присваивает чужое’ (там же, 28, 251);
-
• «обдирать», обирать: свердл. задорница ‘завистливая, жадная женщина’ (там же, 10, 64) (ср. разг. ободрать как липку в значении ‘обобрать кого-либо’);
-
• выскребать: карел. скребень ‘о жадном человеке’ (СрГК, 6, 131);
-
• вырывать добываемое: пск., твер. нарывчастный, нарывчивый ‘жадный на чужое’ (СРНГ, 20, 141), перм. с ножа рвать ‘жадно поглощать пищу’ (ФСПГ, 304), свердл. сорва ‘о жадной женщине’ (СРНГ, 40, 13) и др.;
-
• загребать: ср.-урал. грабастень, грабастой ‘человек, стремящийся обогатиться, нажиться любыми средствами; хапуга’ (СРНГ, 7, 103), новг. грабузда ‘тот, кто заграбузживает -забирает, присваивает что-либо’ (СРНГ, 7, 108), перм. грабодёр ‘о корыстолюбивом, жадном человеке’ (СПГ, 1, 187), севернорус. грабан ‘жадный человек’ (СГРС, 3, 118), карел. загребаха ‘о жадной, корыстолюбивой женщине’ (СРГК, 2, 109) и др.
Такая особенность жадного человека, как чрезмерное желание чем-либо обладать, напрямую оказывается сопряжена с характером совершаемых им действий. Жадный человек готов броситься на добычу (сарат. броский ‘жадный’ (СРНГ, 3, 197)), падок на что-либо (перм. нападкий ‘жадный, падкий на что-либо’ (там же, 20, 60), пск., твер. припадчивый ‘жадный’ (там же, 31, 332)).
***
Выше был представлен мотивационный анализ русской диалектной лексики и фразеологии со значением жадности, в котором учтены предметно-тематические сферы для выделенных моделей. Кроме того, мотивировки представленных номинаций позволяют воссоздать некую прототипическую ситуацию жадности, где условно можно выделить субъект, его атрибуты, объект и предикат. В центре всей пропозициональной структуры находится субъект, человек, реализующий себя в двух ипостасях: как биологическое существо и как личность, проявляющая свою сущность в основных чертах характера. Атрибутивные (качественные) характеристики жадного человека представлены предметными, а также анималистическими образами. Своеобразным объектом жадности становится еда, пища. Предикат являет собой действия, совершаемые жадным человеком. В целом можно сказать, что жадность по данным языка предстает яркой, бросающейся в глаза чертой характера, имеющей свои устойчивые «картинные» образы.
Примечания
-
1 Подробнее о развитии значения ‘голодный’ > ‘жадный’ см.: [Петлева 1970: 213].
-
2 Ср., к примеру, киров. зубáсто ‘много, жадно, с аппетитом есть’ (СРНГ, 11, 357).
Список источников (с сокращениями)
БТСДК – Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003. 608 с.
СГРС – Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. Т.1.: АБ. 252 с.
СПГ – Словарь пермских говоров: в 2 т. Пермь, 2000–2002.
СПП – Словарь псковских пословиц и поговорок. СПб., 2001. 176 с.
СРГК – Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994–2005. Вып. 1–6.
СРНГ – Словарь русских народных говоров.
Л., 1965–2011. Вып. 1–44 (издание продолжается).
ФСПГ – Прокошева К.Н. Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь, 2002. 423 с.
ФСРГС – Фразеологический словарь русских говоров Сибири / под ред. А.И.Федорова. Новосибирск, 1983. 232 с.
Список литературы Русская диалектная лексика со значением жадности: мотивационный анализ
- БТСДК -Большой толковый словарь донского казачества. М., 2003. 608 с.
- СГРС -Словарь говоров Русского Севера. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2001. Т.1.: А-Б. 252 с.
- СПГ -Словарь пермских говоров: в 2 т. Пермь, 2000-2002.
- СПП -Словарь псковских пословиц и поговорок. СПб., 2001. 176 с.
- СРГК -Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. СПб., 1994-2005. Вып. 1-6.
- ФСПГ -Прокошева К.Н. Фразеологический словарь пермских говоров. Пермь, 2002. 423 с.
- ФСРГС -Фразеологический словарь русских говоров Сибири/под ред. А.И.Федорова. Новосибирск, 1983. 232 с.
- Березович Е.Л. Русский АД на иноязычном фоне: к сопоставительному изучению деривационной семантики межъязыковых лексических эквивалентов//Вопросы языкознания. 2010. №6. С.37-57.
- Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М.: Индрик, 2007. 600 с. (Традиционная духовная культура славян. Современные исследования.)
- Петлева И.П. О семантических истоках слов со значением ‘скупой’ в русском языке//Этимология. 1970. С.207-216.
- Пьянкова К.В. Лексика, обозначающая категориальные признаки пищи, в русской языковой традиции: этнолингвистический аспект: дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008.
- Куркина Л.В. Славянские этимологии//Общеславянский лексический атлас. 1981. М., 1984. С.282-291.
- Черных -Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. М.: Наука, 1999.
- ЭССЯ -Этимологический словарь славянских языков. М.: Наука, 1974-2010. Вып.1-36 (издание продолжается).
- СРНГ -Словарь русских народных говоров. Л., 1965-2011. Вып. 1-44 (издание продолжается).