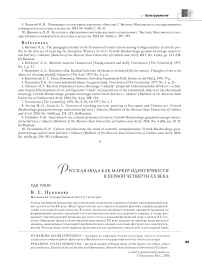Русская мода как маркер идентичности в первой четверти ХХ века
Автор: Пунанова Н.С.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Культурология
Статья в выпуске: 4 (72), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рождению «русской моды» в контексте социокультурных трансформаций первых десятилетий ХХ века. Мода представлена как социокультурный феномен и форма репрезентации культурной идентичности. В статье автор рассматривает влияние народной традиции на формирование модных тенденций в отечественном костюме исследуемого периода, а также раскрывает причины распространения русского стиля в западноевропейской моде в начале ХХ столетия. Народный тренд в отечественной моде начала ХХ века показан на примере моды русского модерна, авангардных тенденций Серебряного века, модного костюма футуристов и конструктивистов. Русская мода этого периода представлена как проводник социальных и культурных идей, транслятор и индикатор идеалов эпохи, как своеобразное зеркало отечественной культуры, в котором отражались социальные и культурные метаморфозы первых десятилетий ХХ века. В статье мода позиционируется как сложноорганизованный текст культуры, способ манифестации примет эпохи, его эстетического, мировоззренческого и социокультурного контекстов. Особое внимание уделено развитию модных трендов как манифестации культурного самоопределения русского народа в ситуации кризиса идентичности.
Мода, социокультурная трансформация, форма репрезентации, культурная идентичность, самоопределение, "надлом империи", модерн, авангард, примитивизм, футуризм, конструктивизм, народное искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/144161030
IDR: 144161030 | УДК: 930.85
Текст научной статьи Русская мода как маркер идентичности в первой четверти ХХ века
Понятие «русская мода», как, впрочем, и сам феномен, появляется только в начале ХХ столетия, поскольку с времён Петровских реформ в России укоренилась европейская мода, которая доминировала в отечественном светском костюме на протяжении двух столетий. И только в середине ХIХ века в купеческой среде появляется понятие «русский костюм», но костюм не народный, а адаптированный к мещанской городской среде. Уже в это время некоторые известные русские художники, старательно скрывая свои имена, стали разрабатывать эскизы модного костюма, как мужского, так и женского. Анонимность такого творчества была связана с осуждением со стороны художников той части профессиональ- ного сообщества, которая «занималась не искусством». В частности, И. Е. Репин весьма скептически относился к занятиям «делать ковры, ласкающие глаз, плести кружева, заниматься модами, – словом, всяким образом мешать божий дар с яичницей…» [19, с. 53]. Но постепенно демократизация общества и культуры начала ХХ века выводит создателей модного костюма из подполья, придавая им уже иной статус. А русская мода становится проводником социальных и культурных идей, транслятором и индикатором идеалов эпохи, своеобразным зеркалом отечественной культуры, в котором отражались все социальные и культурные метаморфозы этого времени.
Россия начала ХХI века, как и столетие назад, переживает значительные мировоззренческие, социально-политические и культурные трансформации. Проводя культурно-исторические параллели, сложно не увидеть, насколько похожи ситуации начала ХХ века и ХХI века. Современные исследователи отмечают: «Захватывающая динамика социальной и политической жизни, научная революция и новые технологии, глобализационные процессы, меняющие окружающий нас мир, с невиданной скоростью опрокидывают привычные представления современного человека о себе и мире…» [7 с. 31]. И можно говорить о том, что «наше время является эпохой мировоззренческих поисков» [1, с. 36].
Сейчас, как и столетие назад, как и всегда в переходные периоды, культура и этнокультурное сообщество становятся основанием идентичности и «единицей выживания» [16, с. 98]. В начале ХХI века кризис идентичности позиционируется как «универсальный тренд современности… основной его приметой называют ослабление и даже утрату связи индивида с собственной культурой и этно-национальным образованием и формирование “глобального человека”» [17, с. 43–44]. В условиях глобализации «индивид утрачивает чувство укоренённости и принадлежности, лишается такого необходимого чувства – “и я этой силы частица” – и в этой связи происходит ломка старых и поиск новых или дополнительных оснований групповой солидарности» [18, с. 23].
Как отмечает И. В. Малыгина, идентичность – это базовая антропологическая характеристика, обусловленная стремлением человека увидеть в картине мира своё собственное отражение [15, с. 7]. В самом общем виде под этнокультурной идентичностью «имеют в виду осознание индивидом своего единства с культурой того или иного сообщества, глубинное, почти сакральное переживание этого единства и соответствующие культурные формы его манифестации» [18, с. 22].
Таким образом, сложная структура идентичности представляет собой три взаимосвязанных компонента: рефлексивный, эмоциональный и поведенческий. Для нас поведенческий компонент идентичности представляет наибольший интерес. Культурные практики, как репрезентация идентичности, как правило, имеют символическую форму – это язык, этническое и национальное мифотворчество, гимны, гербы и, конечно, художественное творчество, что наглядно демонстрируют русские художники, писатели, музыканты исследуемого исторического периода.
К репрезентативным культурным практикам манифестации идентичности относится и русская мода начала ХХ века. Л. С. Бакст не без основания заметил: «… то правильное чередование вкусов культурной части общества, которое называется не без некоторой усмешки Модою, есть, в сущности, один из значительнейших, глубочайшего смысла и важности, показателей истинных колебаний художественной идеи в человечестве» [3, с. 47].
Если обращаться к определениям моды у разных исследователей, можно увидеть, насколько разнообразны трактовки данного явления. В современный период, несмотря на неоднозначность постмодернистской концепции моды, она остаётся до сих пор актуальной и во многом доминирует.
Р. Барт, отказывая моде в семантической наполненности и социальной значимости, определял её как «пустой знак». Мода, по мнению Р. Барта, «может определяться лишь сама через себя, так как это всего лишь некоторая одежда, а модная одежда – всего лишь то, что мода объявляет таковой; таким образом, между означающими и означаемыми происходит чистое взаи- моотражение, в процессе которого означаемое как бы опустошается от всякого содержания» [4, с. 178].
В работах другого философа-постмодерниста Ж. Бодрийяра мода также предстаёт как симулякр. Ж. Бодрийяр писал: «… мода являет собой то уже достигнутое состояние ускоренно-безграничной циркуляции поточно-повторяющейся комбинаторики знаков, которое соответствует сиюминутно-подвижному равновесию плавающих валют… Мода – это стадия чистой спекуляция в области знаков» [6, с. 177].
Однако данная трактовка представляется упрощённой и неадекватной тем функциям, которые свойственны моде. Отталкиваясь от известного определения А. Б. Гофмана, который рассматривает «моду как периодическую смену образцов культуры и массового поведения в сфере человеческой деятельности и культуры, как оформление внешности человека» [8, с. 16], мы склонны рассматривать данное явление как феномен, формирование и изменение которого происходят под влиянием целого комплекса социальных факторов – экономических, политических, научных, художественных и т.д. «Мода является своеобразным индикатором культурной динамики, фиксирующим все сколько-нибудь значимые социальные изменения: от глобализационных процессов, научных открытий, военных конфликтов и террористических актов, до появления новых тенденций в художественной сфере даже новых философских идей» [14, с. 104]. В результате мода предстаёт как сложноорганизованный текст культуры, как способ манифестации примет эпохи, его эстетического, мировоззренческого и социокультурного контекстов.
Именно поэтому формирование моды в России начала ХХ века было обусловлено всем социально-политическим и куль- турным контекстом эпохи, отмеченным в том числе кризисом культурно-цивилизационного самоопределения. Первая мировая война, затем Октябрьская революция (1917) способствовали актуализации национального самосознания и патриотизма.
Художников стали привлекать в конкурсы на разработку проектов одежды в национальном стиле. Мало кто знает, что костюм красногвардейца с шапкой «будёновкой» – это профессиональная разработка художника В. Васнецова. И именно русские художники предложили искать образцы для зарождающейся отечественной моды в народном костюме.
Рождение моды и в России, и в Европе связывают с промышленной революцией, техническими нововведениями, политическими и социальными трансформациями, с устранением сословных, межнациональных барьеров, с процессом урбанизации и, конечно, с процессом массовизации в культуре. Очень многими, даже сейчас, мода рассматривается в рамках массовой культуры, формирование которой датируют также началом ХХ века. Но во многом мода в России, несмотря на то, что представляла собой новое явление в культуре, базировалась на отечественной культурной традиции. Уже во второй половине ХIХ века русское традиционное народное платье было востребованным в рядах писателей-славянофилов и в купеческой среде. Многие состоятельные купцы, желая подчеркнуть своё «народное происхождение», надевали рубахи-косоворотки, тулупы и картузы. В начале ХХ века традиционный русский костюм предпочитали и представители творческой интеллигенции, такие как В. В. Стасов, Ф. И. Шаляпин, М. Горький, Л. А. Андреев, С. А. Есенин и другие. Восхищение красотой народного костюма выразили в своих произведениях Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев,
И. А. Бунин. Подобное увлечение и погружение в традицию не могло остаться не замеченным в культурном пространстве эпохи. Возможно, именно этими обстоятельствами был обусловлен основной вектор формирования русской моды в начале ХХ столетия.
В словаре В. И. Даля мода определяется как «ходячий обычай; временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах [9, с. 344]. В «Большом универсальном словаре ХIХ века» Пьера Ларусса есть утверждение о том, что «мода отличается от обычая, как вид от рода; мода – это преходящий обычай» [23, с. 358].
Создатели отечественной моды первых десятилетий ХХ века искали вдохновения в народной традиции, ориентируясь на элементы традиционного народного искусства и народного костюма. Костюм этого периода явился своеобразным этнокодом, вместе с тем отражающим определённые характеристики массовой культуры и современной эстетики. Не случайно, а вполне закономерно «Русские сезоны» С. Дягилева имели огромный успех на Западе, что способствовало тотальному распространению «русского стиля». Многие европейские художники и модельеры, вдохновлённые «сезонами», старались привнести в европейский костюм элементы народного русского костюма, что выражалось в конструктивных особенностях платья и декоре. Несколько крупнейших европейских домов моды в 20-е годы ХХ века выпустили коллекции одежды в стиле “a lla russe”. Впоследствии развитие русского стиля в моде будет продолжено в культуре русского зарубежья. Отечественное искусство и культура в эмигрантской среде смогли интегрироваться в европейскую культуру, не потеряв своей уникальности. Русские эмигранты открыли в Европе популярнейшие дома моды, такие, например, как Поль Каре, КИТМИР, ИТЕБ, ИРФЕ, ТАО, Бери и другие. Эти модные салоны активно внедряли в европейскую моду традиционные элементы русского костюма (орнаменты, вышивку, ткачество).
Рождение моды в России во многом определялось доминирующим стилем и художественным форматом времени. В начале века это был модерн, признающий и эксплуатирующий тренды западной средневековой культуры и культуры древнейших цивилизаций. Однако в России лидирующей тенденцией в модерне стала «народная тема». Модерн в России реализовался в «неорусском стиле». Народная традиция «прорастала» и интерпретировалась в живописи, музыке, опере, балете, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и моде. Д. Сарабьянов пишет: «Если французские и немецкие художники в поисках примитива чаще всего пускались в дальние путешествия – в Полинезию, Африку … то русские мастера прежде всего обратились к отечественному лубку, вывеске, народной игрушке, иконе и т.д.» [20, с. 179]. Увлечение народным искусством в среде художников многие исследователи связывают с негативными последствиями европоцентризма и осознанием «Заката Европы». Как писал О. Шпенглер: «Падение Запада является, подобно аналогичному падению античного мира, отдельным феноменом…» [22, с. 34].
Однако не менее важным фактором актуализации «народной темы» в отечественном искусстве стал поиск новых идентификационных оснований, обусловленный рядом причин, среди которых:
-
• распространение коммунистической идеологии как социальной идеи: в России заканчивался «петербургский период» истории, а «русская революция как революция социальная… должна была бы
отразиться на одежде» [В. фон Мекк, «Костюм и революция», Ателье, 1923, № 1, с. 31–32; цит. по: 8, с. 72];
-
• реакция на трансформацию культуры и унификацию, стимулированные «мировой революцией»: погружение в русскую традицию при поисках культурного самоопределения стало альтернативой европейским ценностям;
-
• динамика социокультурных коммуникаций и развитие «диалога культур» в мире, что способствовало актуализации культурной идентичности, и в результате в начале ХХ столетия культурные, политические, научные межгосударственные связи активно развивались, что влияло на формирование самоопределения русских, как на государственном уровне, так и на личностном.
Начало ХХ столетия для России – сложнейший исторический период, ознаменованный политическими, социальными и культурными трансформациями. Отечественная культура этого периода перестала быть «имперской» [21, с. 13] (стабильной, устойчивой, консервативной), во многом благодаря процессам демократизации и либерализации русского общества. Тенденции «свободы» от «имперской классики» наглядно иллюстрировала культура Серебряного века, как краткого, но весьма плодотворного периода. Как писал Н. А. Бердяев: «Это было эпохой пробуждения в России… были открыты новые источники творческой жизни, мы видели новые зори, соединили чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на преображение жизни» [5, с. 124]. Некоторые исследователи для определения социокультурного фона эпохи, вводят понятие «надлома империи», рассматривая этот время как переходное, как специфический период своей истории, как переосмысление политических, социальных и культур- ных оснований. Действительно, о разрушении и деконструкции говорить не приходится. Ведь последующая за «имперской культурой» советская культура во многом наследовала классическое искусство. Н. А. Хренов в работе «Культура и империя» утверждает: «… империя по-большевистски ориентировалась на культурное ядро православия – культуру в её византийском варианте» [21, с. 24].
Культурно-исторические трансформации нашли отражение в отечественной моде; многие исследователи связывают это обстоятельство с потребностью народа в идентичности. Это выражалось в необходимости поиска своего этнокультурного кода и его манифестации. Во многом именно этим обстоятельством объясняется увлечение художников, писателей, композиторов Серебряного века народным фольклорным искусством. Некоторые деятели отечественной культуры этого периода осознанно проповедовали антизападничество и подчёркивали корни русской культуры. Даже художники-авангардисты в своём творчестве оригинально интерпретировали архаичные формы народного искусства и фольклора, что также достаточно ярко отразилось в моде Серебряного века. По словам Н. А. Хренова: «Эта потребность укорениться в собственной культурной идентичности приводила многих авангардистов и примитивистов к противопоставлению русской культуры западной, а также к неправомерному её возвышению» [21, с. 54].
Многие деятели культуры этого времени стали предлагать достаточно радикальные направления в искусстве, примером тому является творчество футуристов. Художники-футуристы позиционировали себя художниками новой формации, однако в их творчестве присутствовали элементы языческого искусства древних славян, фольклорные мотивы и эле- менты русской православной иконописи. Это отражено в работах М. Ларионова, Н. Гончаровой и других. Примитивные формы народного искусства и фольклорное творчество в это переходное время были востребованы также символистами, примитивистами, авангардистами. Подобные явления в отечественном искусстве только подчёркивали несостоятельность прозападных ориентиров для России, ведь они были обращены исключительно к аристократии, тогда как массовые слои общества ориентировались на традицию.
Конечно, на первый взгляд, современнику трудно увидеть элементы народного в примитивном и авангардном искусстве, но анализ историко-культурного фона эпохи и истоков стилевых течений этого времени убеждает исследователей в присутствии «народного импульса». Именно «народность» по праву считается одной из доминантных черт отечественной культуры [2, с. 9]. И эта тенденция будет впоследствии развита в творчестве создателей советского искусства. Наиболее ярко это будет выражено в советской моде.
В первые годы советской власти лидирующим стилем стал конструктивизм, который оказал влияние на многие сферы – кино, театр, литературу, плакатную графику, рекламу, архитектуру, живопись, не стала исключением и мода. Русские конструктивисты поставили задачу охватить рациональным конструктивным моделированием все сферы жизни человека и сформировать «новую среду». К проектированию костюма обратились такие художники, как А. Родченко, В. Степанова, Л. Попова, А. Экстер, Э. Лисицкий, А. Ган и другие.
Мода, как явление массовой культуры, способствовала активным коммуникациям и «диалогу культур», интегрируя в мировое пространство «народный тренд»
уже советского искусства. Надежда Петровна Ламанова в 1925 году на международной выставке в Париже получила Гран-при, как писали в прессе: «за костюм, основанный на народном творчестве» [12, с. 69]. Модели Н. П. Ламановой действительно отражали самобытный колорит и народные традиции крестьянской одежды, но в то же время они были очень современными, отвечали требованиям утилитарности, функциональности, практичности и эргономичности. Советская мода презентовала Западу новый стиль – конструктивизм. Большинство русских конструктивистов искали вдохновения и творческие источники (подобно художникам Серебряного века) в народном искусстве и народном костюме, восхищаясь его универсальностью, практичностью и простотой кроя. Именно русские конструктивисты, базируясь на крое русского народного костюма (Л. Попова, В. Степанова, А. Экстер, А. Родченко, В. Татлин) предложили инновационный метод конструктивного формообразования (комбинаторику) и принцип конструктивного декора в одежде, который впоследствии стал классикой в европейском моделировании. Такие черты народного русского костюма, как геометричность, лаконичность форм, динамика линий и конструктивных членений, многослойность и монолитность объекта, стали активно использоваться в отечественной моде. Художники-конструктивисты явились и реформаторами модного костюма, и «хранителями традиций».
Необходимо также отметить, что «послереволюционное время разрушает относительную замкнутость художественной культуры и возникает зависимость от социального заказа» [13, с. 233]. Формирование основ и культуры нового государства – Советского Союза – потребовало создания новых пластических форм, в том числе и в моде. В статье «Искусство одеваться» А. В. Луначарского, вышедшей в журнале, спрашивалось: «Своевременно ли подумать рабочему человеку об искусстве одеваться?»; и тут же следовал ответ: «Искусство одеваться является жизненной необходимостью. Советские художники должны этому помочь…» [12, с. 6]. Именно в Советском Союзе на государственном уровне стали разрабатывать собственную теорию костюма, к чему были привлечены идеологи московского ИНХУКа: В. Ф. Степанова, Б. И. Арватов, Д. Е. Аркин, А. М. Ган. И именно художники-конструктивисты на профессиональном уровне сумели выявить универсальные тенденции народного искусства и костюма, которые возможно интегрировать в современные формы репрезентации.
Мода, как элемент культуры, отвечает художественным и эстетическим представления своего времени и реализуется в модных стилях и доминирующих тенденциях, выполняя утилитарную, социальную, эстетическую, знаковую функции. Но именно в первой четверти ХХ столетия и именно в России мода явилась формой репрезентации этнокультурного самоопределения, что проявилось в моде модерна, русского авангарда, футуристов и конструктивистов.
Список литературы Русская мода как маркер идентичности в первой четверти ХХ века
- Арефьева Н. Т. Начало ХХI века - эпоха мировоззренческих поисков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 2 (52). С. 35-38.
- Аронов А. А. История русской культуры: узловые вопросы (IX-XX века). Гении русской культуры: учебно-методическое пособие / Московский гос. ун-т культуры и искусств. Москва: Экон-Информ, 2012. 271 с.
- Бакст Л. С. Пути классицизма в искусстве // Аполлон. 1909. № 2-3.
- Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры / сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Зенкина. Москва: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. 512 с. (Programme A. Pouchkine).
- Бердяев Н. А. Самопознание: (Опыт философской автобиографии) / [сост., предисл., подгот. текстов, коммент. и указ. имен А. В. Вадимова]. Москва: Книга, 1991. 446 с.