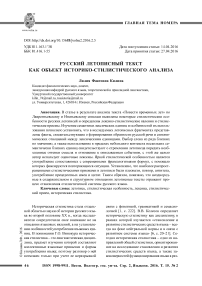Русский летописный текст как объект историко-стилистического анализа
Автор: Килина Лилия Фаатовна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье в результате анализа текста «Повести временных лет» по Лаврентьевскому и Ипатьевскому спискам выявлены некоторые стилистические особенности русских летописей и определены лексико-стилистические явления и стилистические приемы. Изучение семантики лексических единиц и особенностей их использования позволило установить, что в исследуемых летописных фрагментах представлены факты, свидетельствующие о формировании образности русской речи и синонимических отношений между лексическими единицами. Выбор слова из ряда близких по значению, а также использование в пределах небольшого контекста нескольких семантически близких единиц свидетельствуют о стремлении летописца передать необходимые оттенки смысла и отношение к описываемым событиям, с этой же целью автор использует оценочные лексемы. Яркой стилистической особенностью является употребление сопоставимых с современными фразеологизмами формул, с помощью которых фиксируются повторяющиеся ситуации. Установлено, что наиболее распространенными стилистическими приемами в летописи были плеоназм, повтор, антитеза, употребление прецедентных имен и цитат. Таким образом, показано, что неоднородные в содержательном и структурном отношении летописные тексты отражают процесс становления стилистической системы русского языка.
Летопись, стилистическая особенность, лексика, стилистический прием, историческая стилистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14970289
IDR: 14970289 | УДК: 811.163.1’38 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.5
Текст научной статьи Русский летописный текст как объект историко-стилистического анализа
DOI:
Историческая стилистика стала отдельной областью науки об истории русского языка во второй половине XX в., когда исследователи сосредоточили свое внимание не на описании языковых явлений, а на установлении особенностей употребления языковых единиц. В понимании Г.О. Винокура историческая стилистика – это лингвистическая дисциплина, предмет изучения которой составляют коллективные языковые привычки и формы употребления языка; поэтому разговор о ней возможен только при учете ее неразрывной связи с фонетикой, грамматикой и семасиологией [1, с. 222]. В.В. Колесов определяет историческую стилистику как дисциплину, в рамках которой изучаются «становление и развитие стилистических средств языка – всегда на фоне нейтральной нормы и в связи с развитием системы языка» [6, с. 20–21]. Сегодня историческая стилистика – одно из направлений общей стилистики, ориентированное на исследование становления и развития стилистических средств языка, а также закономерностей функционирования языка в раз- личных сферах общения (функциональных стилях и типах текста) [5, с. 418].
Формирование стилистической системы в Средние века было связано со становлением русского литературного языка в целом. Язык постепенно обогащался новыми стилистическими средствами, приемами словесной образности и выразительности, синонимическими, антонимическими и другими ресурсами стиля [5, с. 417]. Начало русского литературного языка и собственно стилистики связано с появлением ранних переводов священных текстов с греческого языка, позже – святоотеческой и житийной литературы, а через некоторое время – светских и деловых текстов. Все эти виды текстов создавались в разных исторических условиях, в разных диалектных средах, поэтому, как отмечает В.В. Колесов, уже в самый ранний период формирования русского литературного языка ему были свойственны языковые и жанровые различия, он изначально отличался неоднородностью [6, с. 20–21]. В связи с этим возникают сложности исторического изучения стилистики, причины которых кроются в продолжительном влиянии стилистических вариантов извне при отсутствии собственной стилистической системы, когда становится сложно соотнести «свое» и «чужое», а также в затруднительности изучения языковых реалий, отдаленных во времени.
Русские летописи без преувеличения можно отнести к уникальным произведениям древнерусской литературы. Не одно поколение историков, лингвистов и литературоведов исследует эти тексты, но и сейчас существуют вопросы, ответы на которые еще только предстоит получить. На первый взгляд, летопись представляет собой историю Руси, последовательную констатацию исторических фактов, с ней связанных. Однако есть и глубинный уровень понимания летописного повествования, напрямую связанный с личностью самого автора, который старается наполнить текст философскими размышлениями, осмыслить исторический процесс сквозь призму христианского мировоззрения.
И.П. Еремин указывает на противоречивость в суждениях летописца и изображении людей, а также пишет о странности и загадочности летописи, имея в виду специфичес- кую фрагментарность, в результате которой «ослабевает связь между отдельными частями повествования» [3, с. 3–4]. Однако именно эта фрагментарность, обусловленная компилятивным характером первых русских летописей, позволяет наглядно увидеть и исследовать стилистические особенности данных текстов, а также определить сложный характер взаимоотношений различных функциональных стилей, зарождающихся в древнерусском литературном языке. С учетом сказанного выявление стилистических особенностей летописи, на наш взгляд, логичнее осуществлять в пределах фрагмента текста, критериями выделения фрагмента могут быть жанровостилевая специфика, тематика, форма изложения, характер передачи информации и т. д.
Стилистические особенности можно обнаружить на разных языковых уровнях, в том числе на лексическом. В данном исследовании мы рассматриваем именно лексико-стилистические явления, так как анализируемые нами тексты русских летописей отражают процесс распада именного синкретизма, обусловивший развитие лексической системы русского языка. Кроме лексико-стилистических средств, мы остановимся на некоторых стилистических приемах, которые активно используются в летописном тексте (антитезе, плеоназме, повторе, употреблении прецедентных имен и цитат).
Современная лексическая стилистика ориентирована на описание средств словесной образности, лексических синонимов, эмоциональной и экспрессивной лексики, фразеологизмов, а также лексических единиц ограниченного употребления (последнее для древнерусских текстов не является актуальным). Говоря о средствах словесной образности и синонимах, представленных в летописи, необходимо помнить о том, что на момент становления стилистики синонимия и метафора практически отсутствовали, эпитеты и эмоционально-экспрессивные средства были развиты слабо, однако широк был спектр глагольных форм и метонимии [6, с. 18]. Образ, понятие и знак в средневековом сознании неразрывно связывались между собой. Слово не существовало само по себе, оно проявлялось в контексте, конкретизация смысла была возможна только в сочетании-формуле [6, с. 35].
Во время создания первых русских летописей явление синонимии только начинало формироваться. Как показало сопоставительное исследование некоторых фрагментов «Повести временных лет» (ПВЛ) по разным спискам, о формировании синонимических отношений между языковыми единицами в ряде случаев свидетельствуют лексические разночтения, которые, как правило, не влияют на общий смысл контекста, например: гробъ – рака – корста ‘гроб’, мовь – мовьня – мовь-ница ‘баня’ и др. Подобные примеры мы обнаруживаем и в пределах одного списка: гр 4 шьныи – гр 4 ховьныи, гр 4 хъ – со-гр 4 шенье, горе – горести, льсть – пр 4 льщенье, л 4 пота – красота, л 4 пыи – красьныи, зълыи – 3 каньныи, зълыи – не-правьдьныи, добрыи – незълобивыи, нечьстивыи – безбожьныи, правьдьныи – доброд 4 тельныи и т. д.1
Как видим, в рядах семантически близких слов встречаются однокорневые и разнокорневые образования, наиболее близкими по значению являются первые, что вполне понятно, степень семантической близости вторых чаще зависит от того, в каком словесном окружении употребляется то или иное слово. Так, в примере б 4 же Ростиславъ мужь добль ратенъ взрастомь же л 4 пъ и красенъ ли-цемь (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 56) л 4 пъ имеет значение ‘годный, подходящий’, а красенъ – ‘красивый’, что обусловлено сочетаемостью с существительными возраст и лицо соответственно.
Говоря о стилистической функции синонимов в современном русском языке, И.Б. Голуб отмечает: «Работая над лексикой своих произведений, писатели выбирают из множества близких семантически слов то, которое наиболее верно передает нужный оттенок смысла; работа с синонимами отражает творческую позицию писателя, его отношение к изображаемому» [2, с. 29]. Таким образом, основная задача автора – выбрать из ряда слов, близких по значению, наиболее подходящее в каждом конкретном случае, выражающее нужное значение. Не вызывает сомнения, что древнерусские авторы осуществляли такой выбор, несмотря на ограниченный круг языковых единиц.
Употребление нескольких семантически близких единиц в пределах одного небольшого контекста также свидетельствует о сознательной установке автора, например: аще бо кн 5 зи правьдиви бъıвають в земли то много 3 тдаютс 5 согр 4 шенья аще ли зли и лу-кави бъıвають то болше зло наводить Б(ог)ъ на землю (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 48). Прилагательное лукавыи ‘коварный, связанный с дьяволом’ (Срезн., т. I, стб. 51) в этом контексте уточняет достаточно обобщенное в семантическом плане прилагательное злыи ‘дурной, плохой, злой, приносящий зло, низкий, бесчестный, тягостный, насильственный, жестокий’ (Срезн., т. I, стб. 1007). В данном случае важно было сделать акцент на принадлежности злых князей сфере дьявола.
В текстах летописей мы также можем наблюдать факты, свидетельствующие о формировании образности русской речи. Как уже сказано выше, в древнерусский период метафорическое мышление развито не было, но это не значит, что человек не сопоставлял одни явления действительности с другими – сопоставление это было основано, как правило, на смежности, сопредельности. Так, во фрагменте, посвященном рассказу о мести княгини Ольги древлянам, в списках ПВЛ мы обнаружили разночтение истобъка – мовница – двери , которое иллюстрирует именно явление метонимии: в последнем случае наблюдаем указание не просто на место (баню), а на его часть – на двери, которые заперли.
Уподобление одного явления или лица другому могло выражаться сравнительным оборотом, словосочетанием и предложением. В ранних русских летописях представлены по преимуществу сравнительные обороты, в которых используется союз аки (яко) ‘как, подобно’, например: б4 бо женолюбець zкоже и Соломанъ (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 25 об.); б5ше бо мужь твои аки волкъ восхищаz и граб5 (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 15); плакашас5 по немь бол-5ре и акы заступника ихъ земли оубозии акы заступника и кормител5 (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 45) и др. В похвале Борису и Глебу находим сравнения, которые имеют предикативный центр, например: zко потока точита от клад5з5 воды живоносныz (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 47). Если человек сравнивается с какой-либо личностью, то оборот начинается словами се есть либо се же, например: се есть новыи Кост5нтинъ великого Рима (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 45). Сравнение могло выражаться также с помощью формы сравнительной степени прилагательного: В се же л4т преставис5 Zнь старець добрыи <...> живъ по закону Б(ож)ью не хужии б4 первых праведник (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 94 об.).
Такое средство лексической выразительности, как эпитет, тоже представлено в летописях. Например, в похвальных словах князьям употреблялись хвалебные эпитеты с целью возвеличивания правителя и увековечивания памяти о нем; речь идет о прилагательных благов 4 рныи, богомудрыи, блажен-ныи, великии и под. Данные эпитеты характеризуют князя в первую очередь как праведника, святого подвижника, которого следует почитать: изиде противу t му бл(а)гов 4 рныи кн 5 зь Всеволодъ с своима с(ы)нъма (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 69). Хвалебный эпитет великий является составной частью княжеского титула, использование которого позволяет сделать акцент на величии и могуществе князя: преставис 5 великыи кн 5 зь Всеволодъ с(ы)нъ Z рославль внукъ Володимерь (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 72).
Эмоционально-экспрессивная лексика, как известно, не только обозначает понятия, но и выражает отношение к ним говорящего, поэтому эмоциональную лексику часто называют оценочной. Н.С. Ковалев пишет о том, что «оценка является одним из видов модальностей, способных накладываться на семантику языковой единицы», в результате чего «возникают оценочные смыслы, реализация которых в тексте осуществляется словоформой, словосочетанием» [4, с. 36]. Оценочные языковые единицы в древнерусском языке использовались для того, чтобы выразить отношение автора к лицам и событиям, например, в тексте ПВЛ образ врага Руси создан с помощью единиц отрицательной оценки: при-де второе Бон5къ безбожныи шелудивыи 3таи хыщникъ; безбожны4 же с(ы)нове Измаилеве и др. (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 77). Летописцам важно было сформировать у читателя представление о том, что такое добро (благо) и зло, о человеческом мире (земной жизни) и мире божественном – царствии небесном, в котором живут ангелы, мученики, святые, пророки, страстотерпцы.
Яркой стилистической особенностью древнерусских текстов является употребление в них формул, и хотя лишь немногие из этих устойчивых единиц сопоставимы с современными фразеологизмами, само явление формульности, безусловно, характерно для русского языка и сегодня. Практически все исследователи обращают внимание на то, что в летописи повторяются одни и те же формулы в определенных контекстах. Например, если требуется зафиксировать ситуацию исправления чего-то плохого, используется формула поправити зло ‘исправить положение, договориться’: поид 4 та к городцю да поправимъ сего зла еже с 5 сотвори оу русьскои земли (ПВЛ по Ипатьевскому списку, л. 90).
Некоторые устойчивые сочетания являются плеонастичными, например, формула супротивный враг : и оутверди оу нихъ в 4 ру правую и несъврату мн 4 помози г(о) с(по-д)и на супротивнаго врага да над 4 юс 5 на т 5 и на твою державу поб 4 жаю козни его (ПВЛ по Ипатьевскому списку, л. 44 об.). В словаре И.И. Срезневского находим: суп-ротивныи – ‘противный, встречный’, ‘противоположный’, ‘противоречащий’, ‘ложный, враждебный’ (Срезн., т. III, стб. 623–624). Итак, супротивныи – это тот, кто противостоит, полностью противоположен чему-то, в летописи речь идет о Дьяволе, который, являясь антагонистом Бога, противостоит ему. В смысловой структуре слова врагъ также содержатся данные семантические компоненты, а значит, перед нами формула, представляющая собой плеоназм.
Избыточное употребление близких по смыслу слов (смысловое дублирование) используется в текстах летописей для эмоционального усиления высказывания, например: есть же могъıла tго в пустъıни и до сего дне исходить же 3т неz смрадъ золъ (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 49 об.). Существительное смрадъ ‘зловоние, мерзость’ (Срезн., т. III, стб. 446) само по себе обозна- чает дурной запах, однако автор употребляет указанное существительное в сочетании с прилагательным золъ, благодаря чему усиливается степень проявления признака: запах не просто плохой, а отвратительный.
Кроме плеоназма, в летописях часто встречаем намеренное повторение одного слова или однокорневых слов, а также повторение речевых конструкций. Прием повтора древнерусские авторы использовали с целью акцентирования внимания на чем-либо важном, имеющем особое значение или смысл. Например, во фрагменте, представляющем собой антинекролог Святополку, важно было несколько раз подчеркнуть, какое именно преступление совершил князь, поэтому здесь неоднократно употребляются формы глагола уби-ти , причастие от этого глагола убивъ , существительное убийство (в составе формулы створити убииство ): створ 5 ть такоже зло убииство , створи убииство , Каинъ убивъ Авел 5 , мужа убих ъ, уби два брата Енохова (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 49 об.). Чаще всего в ПВЛ повторяются языковые единицы, выражающие оценку или отношение, формирующие определенное понятийное поле, например: дасть Бохмитъ ко-муждо по семидес 5 т женъ красныхъ ис-береть едину красну и вс 4 х красоту възложить на едину та будеть ем / жена (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 27– 27 об.); и радовашес 5 с нимъ неиздречень-ною радостию (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 47) и др.
Остановимся подробнее на использовании в летописях антитезы, так как именно этот стилистический прием, основанный на противопоставлении, встречается уже в самых ранних летописных текстах. Антитеза представляет собой быструю смену противоположных понятий в пределах небольшого фрагмента текста. Лексическим средством выражения антитезы являются антонимы, которые объединяются в пары на основе контраста [2, с. 35]. В исследуемых нами текстах антитеза может иметь простую структуру, когда контрастные в семантическом плане языковые единицы употребляются рядом: тъı поставленъ t си 3 т Б(ог) а на казнь злъıмъ а добръıмъ на милованье (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 43 об.); возлюби св 4 тъ а тьму 3 стави
(ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 17 об.) и др. Противоположными в семантическом плане являются казнь – милованье, злыи – добрыи, возлюби – остави, св 4 тъ – тьма . В то же время противопоставленными могут быть развернутые высказывания: аще бо пр 4 же в нев 4 жьств 4 и етера бьния сгр 4 шения посл 4 ди же расыпашас 5 пока-яньемь и м(и)л(о)стн 5 ми (ПВЛ по Ипатьевскому списку, л. 49). В данном случае антитеза выстраивается на языковом уровне посредством наречий времени пр 4 же – по-сл 4 ди , а также существительных нев 4 же-ство, согр 4 шения – покаянье, милостыня . Чтобы понять смысл данного отрывка, необходимо учесть, что все эти единицы актуализируют оппозицию язычество – христианство.
Летописцы часто апеллировали к авторитетным источникам, цитируя прецедентные тексты, в основном Библию. Цитаты в летописях выступают как авторитетное подтверждение мыслей летописца либо как вневременной вывод, который можно приписать к конкретной ситуации в русской истории. Например, в похвале князю Владимиру читаем: якоже Соломонъ реч оумершю мужю пра-ведну не погъıбаеть оупованье (ПВЛ по Лаврентьевскому списку, л. 45). Данная цитата употребляется с целью создания образа праведника, которым, по мнению летописца, был князь, крестивший Русь. Основная функция цитат в исследуемых нами текстах – функция воздействия. Посредством библейского слова летописец формирует определенное отношение к тому или иному факту истории. В связи с тем, что ценностная система в летописи носит теоцентрический характер, библейское слово получает особый вес, а оценка – категоричность, то есть абсолютную уверенность в ее истинности.
Цитирование часто предполагает использование прецедентных имен, что также является особым стилистическим приемом, цель которого – сослаться на авторитетное лицо, подтвердив при этом свои суждения. Например: реч бо Д(а)в(и)дъ работаите г(о)с(подо)ви съ страхомъ и радуитес5 ему с трепетомъ (ПВЛ по Ипатьевскому списку, л. 45 об.). Автором ПВЛ приводятся такие прецедентные имена, как И3аннъ, Иисусъ Христосъ, Соломонъ, Давидъ, Ав- раамъ и т. д. Однако библейские имена употребляются не только при цитировании. Например, имя первого человека Адама встречаем во фрагменте, рассказывающем о крещении Ольги: съвчлечес5 гр4ховныя одежда вет-хаго ч(е)л(о)в(е)ка Адама и въ новыи Адамъ облечес5 еже есть Х(ристо)съ (ПВЛ по Ипатьевскому списку, л. 27).
Итак, рассмотрев стилистические особенности «Повести временных лет», можно сделать вывод о том, что летописные тексты отражают процесс формирования синонимических отношений и образности русской речи. Употребление эмоционально-экспрессивной лексики позволяет летописцу выразить отношение к описываемым событиям, устойчивые словосочетания (формулы) используются для того, чтобы зафиксировать повторяющиеся однотипные ситуации. Наиболее распространенными стилистическими приемами в летописи являются: избыточное употребление близких по смыслу слов (плеоназм), намеренное повторение одного слова или однокорневых слов, противопоставление (антитеза), цитирование прецедентных текстов и использование прецедентных имен. Таким образом, летописный текст со всей уверенностью можно отнести к текстам, в которых зарождаются многие стилеобразующие тенденции русского языка. Исследуя языковые особенности русских летописей, мы имеем возможность обнаружить факты, свидетельствующие о формировании русской стилистической системы.
-
3. Еремин, И. П. «Повесть временных лет»: проблемы ее историко-литературного изучения / И. П. Еремин. – Л. : Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1946. – 92 с.
-
4. Ковалев, Н. С. Древнерусский литературный текст: проблемы исследования смысловой структуры и эволюции в аспекте категории оценки / Н. С. Ковалев. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 1997. – 260 с.
-
5. Кожина, М. Н. Стилистика историческая (диахроническая) / М. Н. Кожина // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – С. 416–420.
-
6. Колесов, В. В. Общие понятия исторической стилистики / В. В. Колесов // Историческая стилистика русского языка : межвуз. сб. науч. тр. – Петрозаводск : Петрозав. гос. ун-т, 1990. – С. 16–36.
ИСТОЧНИКИ И СЛОВАРИ
ПВЛ по Ипатьевскому списку – Ипатьевская летопись. Изд. : Полное собрание русских летописей. – М. : Языки русской культуры, 1998. – Т. 2. – 604 с.
ПВЛ по Лаврентьевскому списку – Лаврентьевская летопись. Изд. : Полное собрание русских летописей. – М. : Языки русской культуры, 1997. – Т. 1. – 733 с.
Срезн . – Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам / И. И. Срезневский. – Спб. : Издание Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, 1893. – Т. I. – 1420 cтб. ; 1902. – Т. II. – 1802 cтб. ; 1912. – Т. III. – 1684 cтб. Репр. изд. : М. : Знак, 2003.
Список литературы Русский летописный текст как объект историко-стилистического анализа
- Винокур, Г. О. О задачах истории языка/Г. О. Винокур//Избранные работы по русскому языку. -М.: Учпедгиз, 1959. -С. 207-226.
- Голуб, И. Б. Стилистика русского языка/И. Б. Голуб. -3-е изд., испр. -М.: Рольф, 2001. -448 с.
- Еремин, И. П. «Повесть временных лет»: проблемы ее историко-литературного изучения/И. П. Еремин. -Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та, 1946. -92 с.
- Ковалев, Н. С. Древнерусский литературный текст: проблемы исследования смысловой структуры и эволюции в аспекте категории оценки/Н. С. Ковалев. -Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1997. -260 с.
- Кожина, М. Н. Стилистика историческая (диахроническая)/М. Н. Кожина//Стилистический энциклопедический словарь русского языка/под ред. М. Н. Кожиной. -2-е изд., испр. и доп. -М.: Флинта: Наука, 2006. -С. 416-420.
- Колесов, В. В. Общие понятия исторической стилистики/В. В. Колесов//Историческая стилистика русского языка: межвуз. сб. науч. тр. -Петрозаводск: Петрозав. гос. ун-т, 1990. -С. 16-36.
- ПВЛ по Ипатьевскому списку -Ипатьевская летопись. Изд.: Полное собрание русских летописей. -М.: Языки русской культуры, 1998. -Т. 2. -604 с.
- ПВЛ по Лаврентьевскому списку -Лаврентьевская летопись. Изд.: Полное собрание русских летописей. -М.: Языки русской культуры, 1997. -Т. 1. -733 с.
- Срезн. -Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам/И. И. Срезневский. -Спб.: Издание Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук, 1893. -Т. I. -1420 cтб.; 1902. -Т. II. -1802 cтб.; 1912. -Т. III. -1684 cтб. Репр. изд.: М.: Знак, 2003.