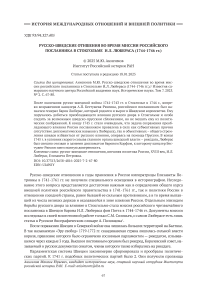Русско-шведские отношения во время миссии российского посланника в Стокгольме И.Л. Любераса (1744-1746 гг.)
Автор: Анисимов М.Ю.
Рубрика: История международных отношений и внешней политики
Статья в выпуске: 2 т.7, 2025 года.
Бесплатный доступ
После окончания русско-шведской войны 1741-1743 гг. в Стокгольм в 1744 г., вопреки возражениям канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, российским посланником был назначен генерал барон Люберас, который родился и вырос в Шведском королевстве. Ему поручалось добиться преобладающего влияния русского двора в Стокгольме и особо следить за возможным шведско-прусским сближением, но не мешать ему из политических соображений. К концу 1745 г. стало очевидным, что задача сохранения преобладающего влияния России посланником провалена в силу как субъективных причин (отсутствие дипломатических навыков у Любераса), так и объективных – общего стремления шведов избавиться от русского влияния, опираясь на помощь Пруссии. В конце 1745 г. в условиях скорого созыва главного органа шведской власти – риксдага, Люберас был спешно отозван и заменен дипломатом бароном Корфом, к которому канцлер Бестужев-Рюмин имел полную доверенность.
Русско-шведские отношения, внешняя политика России, XVIII век, И.Л. Люберас, Елизавета Петровна
Короткий адрес: https://sciup.org/148331450
IDR: 148331450 | УДК: 93/94.327.485 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-67-80
Текст научной статьи Русско-шведские отношения во время миссии российского посланника в Стокгольме И.Л. Любераса (1744-1746 гг.)
EDN: UIAWIY
Русско-шведские отношения в годы правления в России императрицы Елизаветы Петровны в 1741-1761 гг. не получили специального освещения в историографии. Исследование этого вопроса представляется достаточно важным как в определении общего курса внешней политики российского правительства в 1741-1761 гг., так и политики России в отношении соседней страны, ранее бывшей ее сильным противником, а в то время выпавшей из числа великих держав и оказавшейся в зоне влияния России. Отдельным эпизодом борьбы русского двора за влияние в Стокгольме стала миссия российского чрезвычайного посланника в Швеции барона И.Л. Любераса фон Потта в 1744-1746 гг. Документы миссии исследовал в своей многотомной работе только С.М. Соловьев, о самом Люберасе есть лишь статья в Русском биографическом словаре А. Половцова1.
После поражения Швеции в Северной войне она лишилась больших территорий на Балтике . В так называемую «Эру свобод» 1719-1772 гг. скандинавская страна лишилась сильной власти короля, правление которого было ограничено сословным парламентом — риксдагом, созывавшемся через каждые 3 года. Высшим постоянным органом был риксрод, Королевский совет, называемый в русских документах сенатом, члены которого также избирались на риксдаге.
«колпаки» («ночные колпаки») и «шляпы». «Колпаки», пришедшие к власти после Северной войны, выступали за мирные отношения с Россией, «шляпы», вышедшие на политическую арену несколько позже, стремились к противостоянию с восточным соседом.
«Шведские политики не в состоянии были признать в душе территориальные потери Швеции окончательными», как отмечал в своей книге о русско-шведских отношениях А.С. Кан2. Дополнительное раздражение шведского общества вызывал страх и ненависть к своим победителям в Петербурге – шведы боялись окончательной потери независимости и превращения страны в российского вассала.
Эти настроения позволили «шляпам» на риксдаге 1739 г. сокрушить своих оппонентов и прийти к власти. В 1741 г., при российском правительстве Анны Леопольдовны, Швеция объявила войну России, надеясь на слабость русских армий и непопулярность «немецкого» правительства в стране. Однако эти ожидания не оправдались, малочисленная и плохо организованная шведская армия была разбита небольшими силами русской армии, и Швеция, после того, как в 1742 г. русские войска заняли всю Финляндию, вынуждена была согласиться на мир уже при правлении Елизаветы Петровны. В 1743 г. между Россией и Швецией был подписан Абоский мир, по которому к России переходила небольшая часть Южной Финляндии, остальную Финляндию русские войска освобождали в обмен на избрание шведами наследником престола при бездетном короле Фредрике I голштинского принца Адольфа Фридриха, двоюродного дяди наследника российского престола – племянника Елизаветы Петровны Петра Федоровича. Так как в Швеции произошли волнения крестьян Далекарлии за выбор в наследники престола датского принца, по просьбе шведских властей у Стокгольма в 1743-1744 гг. был размещен 10-тысячный русский корпус генерала Якова (Джеймса) Кейта3.
Восстанавливались и дипломатические отношения, прерванные из-за войны. Первым российским посланником в Стокгольме после подписания мира 14 января 1744 г. был назначен генерал-аншеф барон Иоганн Людвиг Люберас фон Потт. Его отец, шотландец, в числе многих других земляков покинул родину из-за поражения якобитов и перешел на шведскую службу, осев в Ливонии. Подростком Люберас впервые увидел русских, занимающих Ливонию, а после перехода Ливонии к России поступил на русскую службу, показав себя толковым военным инженером, получив чин генерала уже после смерти Петра I.
При воцарении Елизаветы Петровны он сохранил влияние, в день ее коронации был произведен в генерал-аншефы и достаточно быстро втянулся в политическую борьбу при русском дворе, перейдя на сторону лейб-медика И.Г. Лестока, лидера «французской» партии и главного противника вице-канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, сторонника сближения с англичанами и австрийцами. Елизавета Петровна, в то время использовавшая тактику опоры на обе придворные группировки, назначила Любераса вторым русским уполномоченным на переговоры о заключении мира со шведами в Або. Бестужев-Рюмин протестовал против назначения урожденного шведского подданного на переговоры со Швецией, но Елизавета Петровна осталась довольна генералом. В начале 1744 г., при протекции Лестока и его сторонников, Люберас и получил назначение посланником в Стокгольм.
В инструкции новому посланнику, составленной 21 января 1744 г., говорилось, что по прибытии ему нужно представляться просто русским генералом, а кредитивные грамоты российского полномочного посланника следовало вручать по особому распоряжению из Петербурга, пока же просто дать шведам прочитать копии его грамот. Люберасу объяснялось, что датчане будут настаивать на отказе шведского наследника престола от вмешательства в голштинские дела и, вероятно, целью датчан является такая же отстраненная позиция российского наследника Петра Федоровича, правящего герцога Гольштейна. Отправка корпуса Кейта, подготовка к походу военного флота и выдача шведам денег были необходимы не только для обороны шведов, но и для общего поддержания тишины в северных делах. Наследник шведского престола 33-летний Адольф Фридрих (получивший в Швеции имя Адольф Фредрик) запрашивал мнение Елизаветы Петровны о кандидатуре своей невесты, которой он хотел бы видеть Луизу Ульрику Прусскую, младшую сестру прусского короля Фридриха II (имя Ульрика она получила в честь крестной матери – шведской королевы Ульрики Элеоноры, сестры Карла XII и супруги Фредрика I, тогда планировалось, что она выйдет замуж за будущего сына шведской королевы, но она так и умерла бездетной). Люберасу следовало ответить на это, что выбор супруги – дело самого наследника. В Петербурге, как сообщалось посланнику, не знали точных намерений Адольфа Фридриха в отношении выбора жены и предпочли не вмешиваться. То, что этим браком свое влияние в Швеции усилит Фридрих II, тогда в Петербурге никого, кроме Алексея Бестужева-Рюмина, не волновало – отношения с Пруссией были дружественными.
Главной задачей Любераса в Стокгольме инструкция называла борьбу с интригами других государств: «все таковые происки сие за главное в виду имеют, чтоб в Швеции уси-ляться и свою в северных делах инфлюенцию наилучше ввести, чего ее императорского величества интерес допускать не дозволяет, и весьма того наблюдать требует, чтоб никакая посторонняя держава в Швеции голос Всероссийской империи превозмочь не смогла»4, то есть посланнику следовало заботиться о том, чтобы российское влияние в Швеции было преобладающим.
Инструкция, явно вдохновленная мыслями вице-канцлера Бестужева-Рюмина, продолжала: «А что касается до прусского двора, то взяв во уважение оного весьма пред прежним умножившуюся силу, число содержимых войск, казенный достаток, також дальние замыслы, а наипаче в делах курляндского герцога для брата королевского (имеется в виду младший брат Фридриха II принц Генрих Прусский. – М.А.), то подлинно надлежит ему, генералу, на поступки оного в Швеции бденное предосуждение иметь, яко само собою в случае, чтоб оный двор, с одной стороны, в Швеции усилился и тоя корону по своим видам поступать заставлял, а с другой – дабы брат королевский герцогом курляндским быть преуспел, та немалая для переду опасность», и императрица не сомневается, что генерал не упустит наблюдать и доносить об этом.
Это первое упоминание об опасениях, которые вызывал Фридрих II в Петербурге в отношении шведских дел. Опасения, которые потом обретут реальную форму, так как и шведские власти, и Фридрих II будут взаимно стремиться к сближению для борьбы с Россией – шведы с целью избавления от любого русского влияния в стране, прусский король – с целью создания блока государств, которые могли бы либо удержать Россию от противодействия прусским планам в Европе, либо отвлечь на себя русские войска в случае какого-либо конфликта в Европе с участием Пруссии.
Люберасу следовало привлекать на свою сторону шведов, перевешивая в стране кредит других держав, которым в Петербурге не доверяли. По словам автора инструкции, в данное время в шведских делах более других заинтересованы две «потенции» – Франция с союзниками и Англия с Голландской республикой. Влияния Франции категорически нельзя допускать, что, впрочем, и в интересах самих шведов сближаться не с Францией, а с Россией – «от кого большую прибыль получают, и коммерция их цветет?». Впрочем, и английское влияние нежелательно в Стокгольме: «Но напротиву того отрещися нельзя ж, что и руководство аглинское в шведских делах равномерно допущено и индифирентно для ее императорского величества быть не может» – в Петербурге, как сообщали посланнику, подозревали англичан в вооружении и подталкиванию датчан против шведов. Этот вопрос было велено выяснить коллегам Любераса в Лондоне и Копенгагене, и самому посланнику следовало разведать это подозрение в Стокгольме. Но в целом, как гордо за- являл автор инструкции, английский двор «сам себя скорее обманет, нежели российский двор тем проведет».
Автор инструкции (вероятно, Алексей Бестужев-Рюмин) в ее концовке снова повторил посланнику свою главную мысль: «всегда неотменно ее императорского величества интерес требует, чтоб российский голос пред всеми протчими дворами в Швеции предпочитаем был», такое положение выгодно и самим шведам, чтобы «северное равновесие» зависело только от находящихся в союзных отношениях шведов и русских, которые совместно могли контролировать Балтийский регион.
В завершение инструкции Люберасу предписывалось иметь с иностранными дипломатами в Стокгольме дружеское обхождение, так как Елизавета Петровна находится в дружбе со всеми правителями, а с союзниками России, то есть со странами, имевшими с Елизаветой Петровной недавно подписанные союзные договоры – англичанами, саксонцами и пруссаками – демонстрировать откровенность5.
В конечную цель своего долгого пути через Варшаву, Берлин, Гамбург, Копенгаген Лю-берас прибыл к концу октября.
Еще 14 августа 1744 г. канцлер Бестужев-Рюмин писал в письме своему заместителю вице-канцлеру графу М.И. Воронцову: «...я скрыть не могу, что (…) мне отправление Лю-браса к шведскому двору не инако как весьма прискорбно и с пользою всевысочайших интересов совершенно не сходственно». Мало того, что он до сих пор не приехал в Стокгольм, писал канцлер, так и в Стокгольме какая от него может быть польза, учитывая, что он сын шведского майора, и воспитан как швед, «и по всем своим натуральным склонностям добрый швед и француз (…), я рассуждаю, что всегда прибыточнее будет россиянина дурака, да верного подданного, нежели иноземца изменника в такое важное дело употребить»6.
Этот же аргумент Бестужев-Рюмин, вероятно, использовал и перед назначением Лю-бераса еще на конгресс в Або в 1743 г. С.М. Соловьев сообщает, что Елизавета Петровна представила тогда этот же аргумент Лестоку, но тот парировал: «Отец вашего величества вел переговоры в Ништадте через немца же»7 (российскими представителями на этом конгрессе были шотландец Яков Брюс и немец Андрей Остерман), и назначение Любераса было утверждено.
О прибытии Любераса в Стокгольм в Петербурге узнали от своего посланника в Дании барона Корфа, сам Люберас не торопился об этом сообщить. К этому времени прусский король Фридрих II нарушил мир с австрийцами и успешно вторгся в их владения.
-
2 ноября того же года Люберас сообщал из шведской столицы, что несмотря на его пояснения, что он прибыл на первое время просто как русский генерал, его везде встречали так, как положено посланнику. Он отметил общий недостаток шведских казенных средств на государственные нужды, провел переговоры с лидером правящей партии «шляп» сенатором и президентом канцелярии (аналог должности канцлера) графом Карлом Гил-ленборгом (Юлленборгом) и спросил того о шведских договорах с Францией и Пруссией. Гилленборг подтвердил, что договоры с этими странами обсуждаются в шведских верхах, а относительно союзного договора с Пруссией он сказал Люберасу: «Також в рассуждение принять надлежит ближнее соседство короля прусского, которого ради Померанской Швеции весьма менажировать потребно, ибо опасаться надлежит, что его прусское величество лехко во оную нападение учинить и себе присвоить может»8. Слова шведского канцлера об опасении вторжения пруссаков в соседнюю с его владениями Шведскую Померанию тоже были подчеркнуты канцлером Бестужевым-Рюминым.
Люберас, знакомясь с состоянием дел в Стокгольме, отметил, что с прибытием Адольфа Фредрика стараниями нового лидера партии «шляп» опытного дипломата графа К.Г. Тессина профранцузская партия сильно увеличилась в числе и продолжает расти. При этом шведский король Фредрик I был более высокого мнения о силе России, чем о Франции. Когда госсекретарь барон Э. фон Нолькен читал ему реляции об отправке в Петербург голландского посла ради заключения союза с Россией против возможного французского вторжения и отметил королю, что Франция уже приняла против этого свои меры, Фредрик I сказал ему: «Друг мой! Я чаю, что Франция от того зело в беспокойстве находиться будет». Об этом разговоре сообщил Люберасу некий доверенный человек при дворе9.
Также быстро в Стокгольме шло дело к союзу с Пруссией. Как отмечал Люберас, шведы боялись Фридриха II, но все равно сближались с ним. Можно предположить, что для них Пруссия была меньшей угрозой, чем Россия. Петербург уже не воевал со шведами, но его военная победа, условия заключенного со Швецией мира угрожали ввести Стокгольм в зону уверенного русского влияния, а для избежания этого шведы готовы были закрыть глаза и на агрессивные устремления Фридриха II на всем протяжении границ его государства, включая и принадлежавшую тогда Швеции часть Померании с городом Штральзунд.
Активное стремление шведских верхов к союзу с Пруссией в таких условиях в русской столице было встречено спокойно. Елизаветинское правительство не хотело давить на шведов как в силу опасений роста антирусских настроений, и без того преобладавших в проигравшей войну стране, так и нежелания идти на обострение отношений с Пруссией, которая имела недавно подписанный союзный договор с Россией.
-
16 декабря 1744 г. к барону Люберасу был отправлен рескрипт с инструкцией, как относиться к стремлению шведов и пруссаков заключить союз. Посланнику следовало настаивать на том, что первым союз шведы должны заключить с Россией, а потом уже с Пруссией. Но против самой идеи шведско-прусского союза выступать не следовало, так как «мы весьма не хотим явным образом предложению прусскому перечить», кроме того, в Петербурге сомневались, что такие усилия приведут к нужному результату со стороны шведов10.
В Стокгольме Люберас в преддверии созыва риксдага предлагал выделить перед этим шведам деньги, если не в виде субсидии, то как акт награждения. Он сообщал, что шведы хотят получать деньги от всех заинтересованных иностранных правительств и, если Россия хочет (о чем гласила его инструкция) одержать верх в Стокгольме, без денег не обойтись. Посланник 14 декабря сообщил о новой проблеме – к созыву риксдага в Швеции стали распространяться слухи о том, что восстановление шведского абсолютизма времен Карла XII – это хорошая идея, что все нынешние беды Швеции из-за ее своеобразного республиканского строя, когда главным органом власти в стране является сословный парламент, а король в основном занят только представительскими делами. Эта идея, по оценке Лю-бераса, имеет мощную поддержку – за нее выступают солдаты, крестьяне, большая часть горожан, а к ним всегда примыкает и духовенство. Дворянство, главное сословие риксдага, о котором Люберас не упоминает, следовательно, в своем большинстве не поддерживало восстановление абсолютизма. Одной из основных фигур в деле восстановления самодержавия становилась жена кронпринца Луиза Ульрика Прусская. В Петербурге уже велели Люберасу внимательно наблюдать за такими планами, но сам посланник 31 декабря 1744 г. сообщал, что «принцесса за ее весьма преданные в пользу Франции и Пруссии поступки у большей части нации зело ненавидима стала, да и кредит кронпринца от того гораздо упал»11. Вероятно, причиной отмеченной Люберасом нелюбви к принцессе Луизе Ульрике стало не только желание направить Швецию в фарватер других стран (все же из-за этого была только что проиграна война с русскими), но и стремление играть первую роль при вялом и нерешительном супруге.
Помимо официального канала в виде посланника Любераса канцлер Бестужев-Рюмин, не доверявший генералу, имел и другой. Он находился в переписке с секретарем российской миссии в Стокгольме Фёдором Ивановичем Черневым. Сам Чернев не хотел ехать в
Швецию из Берлина, где он раньше работал, в письме из померанского Штральзунда от 14 июля 1744 г. он просил освободить его от работы «по причине всегдашнего зело слабого состояния моего здоровья»12, но, конечно, был оставлен на службе. Бестужев-Рюмин, порадовавшись, что секретарь посольства стал писать ему сразу по прибытии в Стокгольм, ответил ему 6 сентября как полномочному дипломату: «сами рассудить можете, коль нужно при нынешних европейских обстоятельствах не точию ведать о происходящем, но и генерально о мнении каждого двора»13. Канцлер показывал Черневу, что надеется только на его глаза и уши в Стокгольме.
Чернев действительно отмечал в донесениях то, что не писал его шеф посланник Любе-рас и что больше всего интересовало Бестужева-Рюмина – поведение и поступки первых лиц шведского правительства. 21 сентября Чернев сообщил, что граф Тессин ранее просил отставку и она была обещана ему сразу после возвращения из Берлина по завершении его миссии посла и переговоров о браке Адольфа Фредрика с сестрой Фридриха II. Тессин вернулся и, ко всеобщему удивлению, больше не говорил об отставке, а наоборот, стал активно посещать сенат-риксрод и канцелярию – внешнеполитическое ведомство. Тессин стал инициатором созыва риксдага, как считал Чернев, так как там что-то «в пользу либо Бурбонского дому, либо короля прусского, от которого он подарками весьма взыскан, произвести хощет»14.
Прусская дипломатия в Стокгольме была очень активна. Прусский представитель в Швеции граф К.В. Финк фон Финкенштейн сообщил президенту шведской канцелярии Гилленборгу предложение Фридриха II шведскому королю Фредрику I как герцогу Шведской Померании присоединиться к Франкфуртскому трактату, антиавстрийскому союзу под эгидой Франции в составе Пруссии, Баварии, Гессен-Касселя, Курфюршества Пфальца. Гилленборг одобрил это, сообщив, что шведы могут предоставить союзникам по борьбе с Марией Терезией 12-тысячный корпус. Урожденный гессенский принц, шведский король Фредрик I тоже одобрил переданное ему Гилленборгом предложение. Однако сенаторы, где большинство было на стороне партии «колпаков», выступили против такой идеи. Сенатор и обер-гофмаршал Самуэль Окергельм (Океръельм), лидер умеренных, сказал королю, что не следует поддерживать Франкфуртскую унию, так как это может быть опасным, и полезнее подождать действий России. Король после этого передумал, Гилленборг протестовал, заявляя, что он уже обещал прусскому дипломату положительный ответ, но король своего мнения больше не менял, и официального ответа на предложение Финка фон Фин-кенштейна просто не последовало.
Прусский посланник через несколько дней, по сообщению Чернева, посетил наследного принца Адольфа Фредрика и предложил уже ему, как администратору Гольштейна, присоединиться к Франкфуртской лиге. Но тот, вероятно, уже заранее зная о намерениях Финка фон Финкенштейна, ответил дипломату, что он не может дать ответ без ведома российской государыни и ее наследника Петра Федоровича как несовершеннолетнего герцога Гольштейна.
-
26 сентября Люберас в реляции сообщил об ответе, который получил прусский посланник Финк фон Финкенштейн. Шведы официально заявили, что готовы присоединиться к Франкфуртской лиге, но с условием не посылать в ее поддержку шведские войска. При такой оговорке присоединение теряло смысл. Сами шведы одновременно серьезно сокращали собственную армию, собираясь с нынешних 28 тысяч довести ее до 14 тысяч человек. В результате те шведы, которые хотели бы шведского участия в европейских войнах, перестали об этом упоминать15.
Главной задачей шведского посла в России Г. Седеркрейца была подготовка в Петербурге русско-шведского союзного договора.
-
25 июня в доме канцлера Бестужева-Рюмина договор о союзе был подписан. По этому соглашению в случае нападения на Швецию другой страны Россия отправляла ей на помощь 12 тысяч пехотинцев, 4 тысячи кавалеристов, 9 линейных кораблей и 3 фрегата, а шведы в случае нападения на Россию отправляли 8 тысяч пехоты, 2 тысячи кавалерии, 6 линейных кораблей и 2 фрегата. В 1-м секретном и сепаратном артикуле, касающемся голштинских дел, было отмечено, что если Петр Федорович не договорится с датчанами о судьбе своих владений, то Россия и Швеция совместно будут договариваться о том, как ему помочь. В другом секретном артикуле, касающемся Польши, стороны договорились, что будут соблюдать и охранять «древнюю вольность» Речи Посполитой. Шведам разрешалось беспошлинно вывозить на определенные суммы хлеба, пеньки и льна из российских балтийских портов, исключая Петербург16.
Пока шли переговоры о заключении русско-шведского союза, продолжались разговоры о желании заключить союзный договор между Пруссией и Швецией. 11 января 1745 г. Люберас сообщил в Петербург, что относительно союза с Пруссией в Стокгольме нет никаких продвижений. Сторонники России, как писал дипломат, утверждали, что остановка переговоров сделана из-за желания узнать мнение об этом союзе Елизаветы Петровны и в целом «большая часть нации и все сущие патриоты такого мнения находятся, чтоб с Прус-сиею не связываться»17.
Секретарь посольства Федор Чернев продолжал дублировать новости из Стокгольма в донесениях канцлеру Бестужеву-Рюмину. Он уже установил связи с «приятелями» России, один из которых сообщил ему, что Луиза Ульрика получила письмо от своего брата Фридриха II, который призывал ее как можно скорее приложить все силы для убеждения короля Фредрика I, ее мужа кронпринца Адольфа Фредрика и шведское правительство к союзу с Пруссией. В союзном договоре прусскому королю нужна была шведская гарантия прусского владения Силезией, отторгнутой у Австрии в результате Первой Силезской войны 1740-1742 гг., и 6-8 тысяч солдат шведского вспомогательного корпуса, который бы двинулся на помощь ему в случае нападения на его владения. Сама принцесса, по словам Чер-нева, сообщает обо всех важных шведских делах своему брату, а сенатор Тессин находится у нее в великой милости. О Тессине, который в эти дни стал обер-маршалом кронпринца, сохраняя чин сенатора и советника канцелярии иностранных дел, фактически управляя внешней политикой Швеции при все более отходящем от активных дел 66-летнем Карле Гилленборге, Чернев сообщил в той же реляции от 18 января следующее: «оный коварный человек к российским интересам зело недоброжелателен и дальновидные намерения име-ет»18. 1 февраля относительно Тессина Чернев отметил, что Адольф Фредрик и Луиза Ульрика «великую конфиденцию имеют к графу Тессину и почти во всем следуют его советам»19.
Кроме желания шведов заключить союз с Пруссией Чернев в реляции от 1 февраля писал о Луизе Ульрике, что она «неусыпное попечение имеет, чтоб здесь быть суверейнству» (подразумевая под этим словом восстановление абсолютизма), и ради этой цели поддерживает сторонников Франции и Пруссии, тогда как сторонников России принимают при дворе очень холодно. По мысли Чернева, сторонников России нужно как-то поддержать, хотя бы морально. Канцлер Бестужев-Рюмин отметил на полях этих строк, что Люберас получил такое повеление, однако вместо этого обнадежил российской протекцией Гиллен-борга, ярого противника России20.
Впрочем, сам Люберас в реляции от 30 января писал, что был вынужден это сделать, так как граф Гилленборг, старый лидер партии «шляп», обижался на него, что он по распоряжению российской императрицы сделал новому лидеру «шляп» графу Тессину «комплимент», а ему нет, и посланник решил сделать аналогичное высказывание и в адрес Гилленборга. Люберас считал, что Гилленборг больше заслуживает доверия, чем Тессин. Отметив между двумя шведами определенную ревность, Люберас решил поддержать ее таким образом.
Шведские министры тем временем «везде разгласить велели, коим образом они ныне императорско-российский двор совершенно на свою сторону привели, так что оный впредь больше французские и королевские (шведские или, возможно – прусские. – М.А.), нежели английские и аустрийские внушения принимать станет»21. Сведения эти, особенно после высылки из России маркиза де Ла Шетарди, были совсем уж фантастические, мало кто им верил, а сам Люберас давал разъяснения сторонникам России и уверял их в том, что русский двор по-прежнему поддерживает их.
Относительно перспектив восстановления абсолютизма в Швеции Люберас был настроен скептически. По его словам в реляции от 7 февраля, «принцесса (Луиза Ульрика. – М.А.) от часу более у персон обоего полу в ненависть себя приводит», так как производит много ненужных трат и долгов, платить по которым придется шведским подданным, кроме того, Луиза Ульрика активно вмешивается в государственные дела «и все по своему нраву и по предписанию короля, своего государя брата, управлять хочет». Получить в королевы при пассивном, но самодержавном государе столь активно связанную с иностранным государем Луизу Ульрику шведы совершенно не хотели. Сам кронпринц тоже не пользовался популярностью у шведов, кроме того, он так до сих пор и не говорил по-шведски, и в Стокгольме считали, что восстановление абсолютизма приведет только к тому, что власть вместо королевских рук сосредоточится в чьих-то других, как сейчас вся политика молодого двора сконцентрировалась в руках сенатора Тессина.
Главным делом Тессина в ближайшее время стал созыв сословного парламента – риксдага. В связи с этим Люберас считал, что «вашего императорского величества интерес требует со стороны вашего императорского величества здесь знатную денежную сумму в готовности содержать», считая, что шведская нация будет на стороне России22.
В это время в Европе произошли серьезные перемены – скончался баварский курфюрст и император Священной Римской империи Карл VII, бывший своеобразным знаменем антиавстрийской Франкфуртской лиги. В Стокгольме начались постоянные конференции с французским послом маркизом де Ланмари сенатора Тессина и его новых креатур – К. Экеблада и секретаря канцелярии барона А.И. фон Хёпкена. Шведские министры, а также французские и прусские дипломаты сообщили Люберасу, что корона императора вместе с королевской короной Богемии теперь перейдёт к саксонскому курфюрсту и польскому королю Августу III.
Интересно, что президент канцелярии граф Карл Гилленборг говорил Люберасу, что если Август III примет императорскую корону, то ему придется оставить трон польского короля, а это значит, что в Польше будут новые мятежи, а это противно интересам российской императрицы. Он же через пару недель говорил с Люберасом о возможном освобождении польского трона, что в таком случае Франция будет поддерживать либо кандидатуру Станислава Лещинского, либо принца Конти. Возможно, Гилленборг не желал видеть Августа III германским императором и стремился повлиять на это через русский двор.
Секретарь посольства Федор Чернев, уже несколько раз просивший канцлера отозвать его из Стокгольма из-за слабого здоровья, 2 апреля отправил ему иносказательное послание, касающееся его формального шефа посланника барона Любераса: «Здесь, изни-мая Минерву (канцлер Бестужев-Рюмин отметил на полях: «кронпринцесса шведская». – М.А.) и главных учителей эпикурейской философии, почти все генерально Чуду Морскому (примечание Бестужева-Рюмина: «Люберас». – М.А.) скорейшего возвращения отсюда на прежнее его жилище желают… Однако и он сам, почитая сие место за прямой соломонский Офир, никакой охоты к тому не показывает, толь же наипаче, что от своей долговременно одержимой жестокой болезни, тако называемой Gross-Bottschiftens Siechtum (возможно – Schwache – слово неразборчиво. – М.А.) (примечание канцлера:
«великопосольская немощь». – М.А.), которая его денно и ночно несказанно мучит, еще и поныне не освободился»23.
Люберас в это время решал вопрос об отзыве из Константинополя шведского посланника Эдварда Карлсона. В Петербурге были недовольны его антироссийскими действиями в турецкой столице во время русско-шведской войны, и теперь, после подписания мира, пришло время предлагать шведским властям отозвать его. Барон Люберас уже много раз представлял об этом шведскому королю Фредрику I, и тот в итоге отправил требование в сенат отозвать Карлсона. Патроном Карлсона, по словам Любераса, был граф Гилленборг, который все затягивал этот отзыв, но теперь, как был уверен российский посланник, решение принято и в Константинополь к Карлсону уже был отправлен соответствующий указ. 19 апреля 1745 г. Люберас в реляции передал слова короля, который говорил ему, что Карлсон точно отозван, плохо отзывался о нем как навлекшем позор на Швецию союзом христианского государства с нехристианским. Союзный договор Швеции с Османской империей Фредрик I в разговоре с Люберасом осуждал, называя его «чертовский тот союзный трактат с Портой, который они здесь против моей воли заключили»24.
Письмо Чернева о «Чуде Морском», вероятно, сыграло свою роль в судьбе барона Лю-бераса, и уже 7 июня 1745 г. к нему был отправлен рескрипт об отзыве в Россию, но с отъездом Люберасу пришлось задержаться, так как в Петербурге возникли сложности с его сменщиками.
В это время Люберасу снова пришлось сообщать о подготовке шведско-прусского союза. И в Стокгольме, и в Берлине ждали только завершения переговоров о русско-шведском союзе в Петербурге. Как только в шведскую столицу прибыли ратификации договора Елизаветой Петровной, 28 сентября 1745 г. прусский посланник граф Финк фон Финкенштейн обратился к президенту шведской канцелярии графу Гилленборгу с предложением завершить прежние переговоры о союзе. Люберасу Финк фон Финкенштейн сказал, что Россия и Пруссия - союзники, а его король Фридрих II ждал заключения русско-шведского союза, чтобы тоже заключить аналогичный союз со шведами.
Выполняя повеления своего двора, Люберас стремился удерживать «благонамеренных» шведов, то есть сторонников дружественных отношений с Россией, от идеи одобрения шведско-прусского союза.
Однако влияние сторонников сближения с Россией было крайне ограничено, и не они принимали решения. 18 ноября, по сообщению Любераса в реляции от 22 ноября, состоялся совет шведских государственных лиц в присутствии короля и кронпринца, на котором было решено одобрить подписание союза с Пруссией и назначить ответственных за его подготовку со шведской стороны. Король Фредрик I все же решил обратиться к Елизавете Петровне и узнать ее мнение о шведско-прусском союзе.
Мнение русского двора уже сообщалось Люберасу – Россия не может открыто выступать против союза своих союзников. В Стокгольме стремление к союзу с непобедимым Фридрихом II, так успешно воюющим с австрийцами и саксонцами, стало преобладающим. Как писал Люберас в реляции от 6 декабря 1745 г.: «И яко при нынешних прогрессах прусского оружия партия здесь от часу умножается, тако и доброжелательные уже зело унывают»25. Конфиденты Любераса также просили его узнать, что хочет Елизавета Петровна.
-
10 декабря шведский посланник в Петербург граф Нильс Барк на конференции с канцлером Бестужевым-Рюминым передал тому просьбу своего короля узнать мнение Елизаветы Петровны о шведско-прусском союзе. Русский канцлер ответил, что Елизавета Петровна не предписывает другим странам каких-либо условий, но «в крайнейшей конфиденции» Бестужев-Рюмин может высказать посланнику свое личное мнение: «Не подвержены ли будут другим державам такие новые союзы и обязательства какому омбражу или подозре-
- нию? И не заведет ли такая алиянция вместо ласкаемого себе получения пользы в какие дальности, о додержании же ее императорским величеством своих обязательств нималей-ше сумневаться нельзя». Шведам может исходить угроза только от двух стран – Дании и Пруссии, а Россия всегда поможет своим шведским союзникам. Канцлер просил Барка и короля держать эти слова в тайне, отметив, что русским дипломатам в Стокгольме он также отправит тайные инструкции такого рода26.
Канцлер Бестужев-Рюмин судя по всему не питал иллюзий относительно возможностей слабой шведской партии «колпаков», выступавших за дружественные отношения с Россией. На полях реляции Любераса от 13 декабря о прусско-шведских переговорах о союзе он написал ремарку для Елизаветы Петровны: «Канцлеру необходимо потребно быть видится с Даниею без потеряния времени оборонительный союз возобновить, который против Швеции России не меньше полезен быть может, как алианция королевы венгерской, как она ныне не разорена и не разграблена, против короля прусского, и потому здравая политика требует заключением оных обоих как возможно спешить»27. Можно отметить, что для А. Бестужева-Рюмина опасность сближения Швеции с Пруссией была серьезной, против этого он желал бы заключения союза с Данией, которая могла бы удержать шведов, как австрийцы могли удержать пруссаков. Ситуация на Севере также была для канцлера поводом напомнить о важности заключения нового союза с Австрией, который и был подписан через несколько месяцев после этой его заметки на полях.
Барон Люберас также понимал, что в Стокгольме решается одно из важнейших дел для России, и сообщил о том, что российскому дипломату здесь приходится рассчитывать только на себя. «Аглинский министр себя и двор свой своими всегдашними грубыми поступками весьма возненавидимым учинил, голландский вовсе ничего не делает». Английским посланником с 1742 г. был полковник Мельхиор Гай-Диккенс (Гюи-Диккенс или Гвидекенс в русских документах). Бестужев-Рюмин отметил императрице на полях, не соизволит ли она сделать представление английскому послу в Петербурге графу Гиндфорду о желательности смены английского представителя в Стокгольме на более способного28. Однако Гай-Диккенс остался посланником в Стокгольме. Возможно, императрица не выдала канцлеру санкцию на такой разговор.
-
9 января 1746 г. к канцлеру Бестужеву-Рюмину прибыл шведский посланник в Петербурге граф Н. Барк и передал как министру союзной страны проект этого договора. Канцлер «в конфиденции» снова сказал шведу о «в дальность заводящем союзе». Барк в ответ сказал, что Фридрих II сейчас уже находится в мире с соседями (заключив мирный договор с австрийцами и саксонцами в декабре 1745 г.) и со стороны Швеции «непристойно и опасно было б такому сильному государю и ближнему соседу в союзе отказать и тем его раздражить»29, что могло привести прусского короля к идее заключить антишведский союз с Данией. Если Фридрих II нарушит мир с кем-либо, Швеция, естественно, не будет ему помогать. Бестужев-Рюмин заметил, что Дания и так уже в союзе со Швецией и против нее ничего предпринимать бы не стала.
-
31 января Барк снова посетил канцлера и сообщил ему, что король Фредрик I, получив «конфиденциальный» ответ Бестужева-Рюмина об отношении русского двора к шведско-прусскому союзу, согласен сохранить его в секрете и сам надеется, что этот договор не будет подписан. Барк также передал присланный от короля втайне от его министерства протокол конференции шведского канцлера графа Гилленборга с прусским посланником в Стокгольме графом Финком фон Финкенштейном. В сентябре того же года, согласно ремарке Бестужева-Рюмина, Барк сам просил его, чтобы в рескрипте к новому посланнику России в Стокгольме барону Корфу были бы жалобы на Барка, чтобы его непосредственное руководство не ругало его.
Как уже сообщалось, в это время менялся российский посланник в Швеции. В наступающем 1746 г. в Стокгольме ожидался созыв риксдага, на котором должен был определиться вектор будущей внешней политики Швеции. Оставлять на посту российского представителя в Швеции барона Любераса канцлер Бестужев-Рюмин не хотел ни при каких обстоятельствах. Ему удалось уговорить Елизавету Петровну отозвать Любераса в Россию. На его место получил назначение русский по происхождению, действительный камергер Алексей Михайлович Пушкин, до того занимавший пост архангелогородского губернатора. Но и кандидатура Пушкина в итоге не устроила канцлера. Он предложил отправить Пушкина в Копенгаген, а в куда как более важный для Петербурга Стокгольм перевести посланника в Дании курляндца барона Иоганна Альбрехта фон Корфа, бывшего президента Петербургской Академии наук.
Канцлер Бестужев-Рюмин очень ценил образованного и умного Корфа и предложил императрице назначить его в Стокгольм на созываемый риксдаг, где Корф должен был защищать интересы России и ее сторонников в Швеции в сложных условиях. Как писал сам канцлер в ремарке на полях донесения Любераса от 13 декабря 1745 г.: Елизавета Петровна уже знает, «чтоб ко времени начатия сейма камергера Корфа из Копенгагена в Стокгольм, а на его место за неимением в дацком дворе великой нужды камергера Пушкина послать. На генерала же Любераса в таком важном обстоятельстве, каков он искусен ни есть, хотя он по-видимому прежнюю свою систему отменять начинает, совершенно положиться никоим образом невозможно», учитывая, кем именно он был рекомендован (Бестужев-Рюмин имел в виду Лестока), кроме того, сам Люберас – урожденный швед и всегда был французско-прусским сторонником, а верности и способности Корфа Бестужев-Рюмин доверял30.
Подводя итог и давая оценку миссии Любераса в Стокгольме, можно сразу отметить, что главную задачу, поставленную перед ним – сохранить решающий голос России в шведских делах – генерал провалил по ряду причин. Не будучи профессиональным дипломатом, Люберас не вел никаких политических интриг. Судя по его донесениям, Люберас не сближался с лидерами «колпаков», так как о таких разговорах и о позициях конкретных людей он вообще не сообщал. Вероятно, обвинение, высказанное секретарем посольства Черневым, в пассивном поведении Любераса имело под собой основания. Несмотря на то, что канцлер Бестужев-Рюмин изначально подозревал назначенного помимо его воли посланника в Стокгольме в служении интересам и Швеции, и своих противников при дворе, Люберас в итоге старался выполнить все его инструкции, что к концу миссии генерала положительно отметил Елизавете Петровне сам канцлер, при этом по-прежнему настаивая на том, что на месте Любераса должен быть более умелый дипломат.
Елизавета Петровна согласилась с этим, и перед самым созывом шведского парламента назначение в столь важный для русской дипломатии Стокгольм получил опытный дипломат барон Корф. Можно отметить, что с этого времени, несмотря на сохранение антибес-тужевской группировки при русском дворе, на протяжении нескольких лет дипломатами в европейских столицах назначались только кандидаты, выбранные канцлером Бестужевым-Рюминым.
Помимо субъективных причин слабости российской дипломатии в шведской столице в 1744-1746 гг. имелись и объективные причины. Антироссийски настроенная партия «шляп» сохранила свою власть несмотря на полный военный разгром Швеции, и все уступки русского двора при заключении мира и после этого шли ей на пользу. Партия «шляп» сумела «перевербовать» и изначально российского ставленника на должность наследника престола – голштинского принца Адольфа Фридриха, маня его возможным восстановлением абсолютной власти короля. Впрочем, прибыв в Швецию, новоиспеченный наследник престола вполне должен был правильно оценить ситуацию, видя резко отрицательное от- ношение большинства шведского общества к чрезвычайно сильному и влиятельному восточному соседу, и перейти на те же позиции. Судя по сообщениям еще генерала Кейта о том, что кронпринц Адольф Фредрик тяготился наличием в Швеции русских войск и не хотел, чтобы их связывали с ним31, наследник понял это очень быстро. Выбор Елизаветы Петровны, вероятнее всего, по принципу родства кандидата с ее племянником, таким образом, был тоже неудачным.
Основной причиной теперь уже неприкрытой неприязни шведской верхушки к России стало возвышение Пруссии. Если все соседи Пруссии, включая Данию, теперь боялись ее и были настроены антипрусски, то в Швеции появление новой великой державы было воспринято с восторгом и надеждой. Для «шляп» военная мощь Пруссии была противовесом влиянию России в стране, а сама непобедимая Пруссия стала рассматриваться как страна, способная наконец сокрушить силу восточного гиганта, что могло привести и к возвращению от России утерянных шведами земель в Прибалтике. Выразителем этих надежд и стал один из лидеров «шляп» и глава шведской дипломатии граф Тессин. Успехи пруссаков в Силезских войнах показывали, что союз с Берлином способен как лишить Петербург всякого влияния на Стокгольм, так и, возможно, нанести России военное поражение. В силу этих соображений Тессин лично наладил отношения с Фридрихом II и обсудил с ним брак наследника престола с прусской принцессой. После реализации этого замысла шведы стали готовить общество к мысли о заключении военного союза с непобедимой Пруссией. В таких условиях позиции сторонников сближения с Россией представлялись совсем слабыми. Можно отметить и ту ловушку, в которую в Стокгольме попала российская дипломатия, заключив в 1743 г. союз с Пруссией. Теперь Петербург не мог возражать против сближения шведов, одного из своих союзников, с Пруссией, другим своим союзником. Об этом прямо говорилось в инструкциях барону Люберасу, а разные оговорки о желательности того, чтобы этого договора между Берлином и Стокгольмом не было подписано, уже роли не играли. Сближение Швеции и Пруссии, к крайнему неудовольствию Бестужева-Рюмина и, с конца 1745 г., и самой Елизаветы Петровны, шло стремительно и бесповоротно. В Петербурге теперь сделали ставку на победу «пророссийской» партии «колпаков» на созывающемся риксдаге, на русские деньги для депутатов и на дипломатические способности нового российского представителя в Стокгольме барона Иоганна Альбрехта фон Корфа. Несмотря на то, что Корф активно старался поддержать русское влияние на риксдаге 1746-1747 гг., его миссия также закончилась полной неудачей – сторонники России были разгромлены, лидеры «колпаков» отправлены в отставку или арестованы, шведско-прусский союз был подписан, а самого Корфа пришлось отозвать из Стокгольма32.