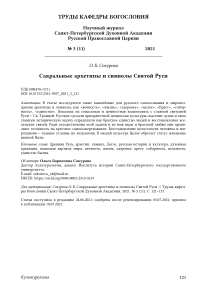Сакральные архетипы и символы святой Руси
Автор: Сокурова Ольга Борисовна
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия религии и религиоведение
Статья в выпуске: 3 (11), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются такие важнейшие для русского самосознания и мировоззрения архетипы и символы, как «вечность», «жизнь», «здоровье», «целое», «Крест», «соборность», «единство». Показана их смысловая и ценностная взаимосвязь с главной святыней Руси - Св. Троицей. Русские сделали приоритетной ценностью культуры спасение души и свою главную историческую задачу определили как братское единство людей и восстановление вселенских связей. Ради осуществления этой задачи и во имя веры и братской любви они проявляют готовность на крестное самопожертвование. Восстановление целостности человека и мироздания - главное условие их исцеления. В нашей культуре Целое обретает статус жизненно важной Цели.
Древняя русь, архетип, символ, логос, русская история и культура, духовная традиция, языковая картина мира, вечность, жизнь, здоровье, крест, соборность, цельность, единство бытия
Короткий адрес: https://sciup.org/140294893
IDR: 140294893 | УДК: 008(470+571) | DOI: 10.47132/2541-9587_2021_3_121
Текст научной статьи Сакральные архетипы и символы святой Руси
About the author: Olga Borisovna Sokurova
Doctor of Culturology, Associate Professor at the History Institute, Saint- Petersburg State University.
The article was submitted 24.06.2021; approved after reviewing 03.07.2021; ac-cepted for publication 10.07.2021.
В высшей степени интересным и важным, но еще, по сути, неизвестным или неосознанным для большинства наших соотечественников и современников является то обстоятельство, что в отечественной культуре закон обратной перспективы может действовать не только в освоении пространства (как, например, в иконописи), но и в осознании времени. Д. С. Лихачев, например, обращал внимание на такую особенность древнерусского восприятия времени: «Прошлое находится впереди какого-то причинно- следственного ряда, настоящее и будущее — в конце его, позади. “Передние князи” — это давние, первые князья. Задние события — последние. Поэтому “переднее” — прошлое было и самым важным, как начало событийного ряда, как его объяснение, первопричина. От этого и “внуки”… могли наследовать “путь” дедов или растерять их наследство и, как следствие, лишиться славы дедов»1. Об этом же свидетельствует и Е. В. Петрухина, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ. В древнерусском сознании, пишет она, «мысль обращается не к концу — результату, а к началу — истоку. Лежащие в основе миропорядка “первые” события не переходят в призрачное бытие воспоминаний — они существуют в своей реальности вечно»2. Именно в эти, «передние веки», выстраивались главные ориентиры нашего исторического бытия, закладывались архетипы национального сознания, формировались символы культуры. По ним мы призваны проверять себя, направление своего пути. К некоторым из таких направляющих архетипов и символов сделаем попытку обратиться.
Еще с дохристианских времен славяне осознавали себя хранителями и носителями слов сакрального уровня. Наши предки причисляли себя к «словеньским» племенам, и такой этноним не был случайным. Самоназвание славян указывает на приоритетное значение слова в их племенной самоидентификации.
Слово в нашем языке восходит к индоевропейскому корню *kleu- // *klu-и находится в родственно- смысловой связи с глаголами « слыть », « слышать », «славить» (т. е. стремиться к тому, чтобы все услышали ), а также «становиться послушным ». «Слово этимологически обозначало сказанное с позиции восприятия , а речь — с позиции воспроизведения» 3 .
Это этимологическое значение слова, характерное только для славянских языков, несет в себе глубокую мудрость. Прежде чем сказать человеческое слово, надо вслушаться и услышать божественный Логос. Еще Гераклит говорил: «Те, кто слышали, но не поняли, глухим подобны: “присутствуя, отсутствуют”, — говорит о них пословица»4. Логос, с точки зрения древнегреческого философа, предполагает наличие слушающих его. М. Хайдеггер, крупнейший философ- экзистенциалист XX столетия, учившийся мудрости у великого эфесца, Фомы Аквинского и отцов Восточной Церкви, предупреждал, что от человека при поиске слова требуются не своеволие и активизм, а по-слушание. Мысль, утверждал он, должна не вести себя захватнически, а, напротив, позволить бытию захватить себя, чтобы затем с-каз-ать (и тем самым по-каз-ать, обнаружить) истину бытия.
«Имеющий уши слышать, да слышит» — такая формула неоднократно встречается в Новом Завете (Мф 11:15; Лк 8:8; 14;35 и т. д.). «Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова…» (Иак 1:19).
Поэтому слову, как это ни парадоксально, необходима внимающая тишина; она должна предшествовать его рождению. Этимология славянского « слова », о которой сказано выше, как раз свидетельствует об установке на чуткое в слуш ивание в тайну бытия и по слуш ание его божественным смыслам. Подобного откровения, содержащегося в самом концепте «слово», не найти в других языках5.
«Слово» и «слава» — однокоренные слова. Слава — это слово в свете, что указывает на его сакральный уровень. Представители дореволюционной филологической науки А. Н. Афанасьев и Ф. И. Буслаев в своих исследованиях показали, что мифопоэтические воззрения славян, отраженные в языке, указывали на их все более проявлявшуюся устремленность к свету6. А. Н. Афанасьев (1826–1871) отмечал, что славянин чувствовал свое родство со светлыми, белыми божествами, которые поддерживали существование всего живого на земле и с которыми связывались представления о высшей справедливости и благе. Академик Ф. И. Буслаев (1818–1897) в работе «О влиянии христианства на славянский язык» (1848) выявил соответствующий ряд слов и имен, имевших в духовной жизни древних славян в мифологические времена особое значение.
Среди них, например, др. слав. вълхвъ (в Лаврентьевской летописи — русская форма волъсви). Это слово, «согласно с верованием в высшую светящую силу солнца, является в первоначальной форме в скр. <санскритском> глаголе валг , — светить, блистать. Следовательно, волхв есть не только синоним жрецу, но и его древнейшее индоевропейское наименование…; волхв носит в себе память о поклонении свету, жрец прямо указывает на жертву и огонь»7.
В Ипатьевском летописном списке, отмечает академик Буслаев, упоминается верховное божество Сварог . Верование в Сварога восходит еще к индоевропейскому периоду: др.-инд. svar, авест. hvarэ восходит к и.-е. корню *sauel / suel — «блестеть», «солнце»; др.-инд. svarate, др.-авест. hvarate — «зву-чать»8. Таким образом, зв- ук и св- ет (слово и свет) через язык обнаруживают коренное, изначальное родство.
«Солнце царь сынъ Свароговъ еже есть Дажь-богъ». В «Слове о полку Игореве» древние русичи были определены как дажьбожьи внуки. Даж(д)ь-бог, податель благ, дающий, милующий, питающий , владыка света и добра, назывался также Сварожичем (т. е. сыном Сварога), и Ф. И. Буслаев отмечает, что «это божество было особо почитаемо славянами». Перун — бог грозы и молний, бог очистительного огня и ветра, которые предваряли откровение о действиях Св. Духа.
Как можно видеть, в верованиях древних славян, в сакральных словах и образах позднего языческого периода уже видны признаки предхристианства9. И текст молитвы Господней, где есть обращение к Отцу, сущему на небесех , с призывающими свет словами «да свят ится имя Твое», с просьбой «хлеб наш насущный даждь нам днесь», мог родить в сердцах славян понимающий отклик и способность осознать эти слова уже на новом уровне приобщения к Истине.
Вместе с христианской верой славяне, как известно, обрели свою письменность.
Г. М. Прохоров (1935–2017), оставивший яркий след в гуманитарной науке профессор СПбГУ, главный научный сотрудник Пушкинского Дома, снискавший мировую известность своими работами по византийскому исихазму и историко-культурному и духовному наследию Древней Руси, утверждал: «Обе славянские азбуки, глаголица и кириллица, были миссионерскими. Это значит, что они не представляют собой остатки языческой древности, но придуманы специально, чтобы создать богослужение и литературу на родном для славян языке и таким образом распространить среди них осмысленную христианскую веру»10.
Глаголица появилась раньше кириллицы. В основу большинства глаголических букв, как отмечают Г. М. Прохоров и другие исследователи, были положены три основных христианских символа: крест (символ Христа), круг (символ бесконечности и полноты жизни в Боге) и треугольник (символ Троицы)11.
Как представляется, именно эти сакральные символы-архетипы стали основанием русской исторической судьбы. Рассмотрим наиболее значимые их проявления в языке и культуре.
КРЕСТ. Этот сакральный образ является центральным в христианстве и присутствует в таких словах, как Распятие и Крещение. Они вовсе не являются прямыми кальками со слов других древних языков, но содержат их глубокое творческое переосмысление. Доктор исторических наук Н. Н. Лисо-вой, бывший до самой своей кончины заместителем председателя Императорского Палестинского общества, размышлял, например, о «Распятии, соответствующем (а на самом деле как раз вовсе не соответствующем) греческому ςταυροσις — ”сажание или подвешивание на кол”»12. Между тем, отмечает ученый, в Кирилло- Мефодиевском Распятии присутствует образ Креста. Тот же образ положен в основу слова «крещение», в то время как в других языках термины, означающие крещение, происходят от греческого «баптисма» — «окунание», «погружение в воду». «Для русского сознания крещение-хрещение есть «погружение» в Крест, добровольное пригвождение себя к Кресту Господню, сораспятие Христу»13.
Известно, что крестившаяся в Константинополе княгиня Ольга- Елена, которую благодарные потомки стали сравнивать с утренней зарей, предвозвестившей державное солнце Владимирова крещения, стала первым делом воздвигать на Родине каменные кресты на месте древних языческих капищ. По-видимому, уже тогда юная Русь начала готовиться к своему великому кре-стоношению. Значительная часть представителей западных народов, которые поначалу с энтузиазмом откликнулись на призыв Христа «Отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за Мной», впоследствии не исполнили этого призвания, поскольку в основной своей массе предпочли материальные блага, душевный и физический комфорт, внешнюю респектабельность, эгоизм. Но есть, конечно, в этом общем «тренде» и впечатляющие исключения.
Россия, сохраняя в своих глубинах нетленный образ Святой Руси, никогда креста с себя не слагала и с крестного пути не сходила, в том числе и на протяжении семи «красных» десятилетий ХХ века. Ведь именно в эти годы она дала миру такой сонм новомучеников, равного которому не было за всю историю христианства. Кроме того, имея в сердцевине своего герба образ Георгия-Победоносца, Георгия-з мееборца, наша страна несла и несет на своих раменах русский воинский крест , сражаясь в разные исторические времена с темными силами, претендующими на мировое господство14. Крестным путем она и сейчас следует за Христом — неслучайно вокруг и внутри нее все громче и настойчивей звучат голоса: «Распни, распни ее!»
Но без Креста, как известно, нет Воскресения, и невозможно приобщение человека и человечества к Вечности. Г. М. Прохорову принадлежит яркая и оригинальная концепция Крестообразности времен. В центре — настоящее, изнутри которого люди, постигая смысл своего существования, неизбежно обращаются к другим временам. На горизонтальной оси — Прошлое- Будущее, на вертикальной — Вечность- Миг.
Преимущественное сочетание настоящего с тем или другим временем дает, как считает ученый, соответствующую модель культуры и исторического самосознания. Так, Прошлое-в- Настоящем характерно для патриархального сознания, для традиционных культур. На осмыслении этой модели были сосредоточены, в частности, славянофилы. Будущее-в-Настоящем характерно для утопического сознания, для построения, например, коммунистической утопии. Миг-в-Настоящем свойствен гедонистической модели, где главный принцип — «после нас хоть потоп». Страсти сребролюбия, славолюбия и сластолюбия — характерные виды власти Момента. Торжество такой власти Г. М. Прохоров увидел в нашей стране в перестроечную эпоху. Вообще эта модель отчетливо проявляется во всем современном мире. Ей противостоит парадокс Вечности-в-Настоящем, характерный для христианского литургического сознания и мировидения в целом. «Наднациональная, надэтническая вечность не отменяет национальной, этнической (основы), но ее преображает»15.
Кстати, в нашем языке слово Преображение (изменение образа ) имеет иной оттенок смысла, чем греческое «метаморфоза» и латинское «трансформация».
Н. Н. Лисовой, обративший внимание на смысловую разницу между образом , строением и формой , поделился еще одним важнейшим языковым наблюдением: «Воскресение Христово — по-гречески “avaaTaaig” ( анастасис ), что означает “ восстание ”. Мы тоже говорим о “восстании Христа из гроба”. Но когда понадобилось передать терминологически представление о самом “механизме” преодоления смерти, Кирилл и Мефодий, а за ними церковнославянская и русская богословская мысль использовали слово воскресение. Славянский глагол кресити означает первоначально «получать <священный> огонь с помощью кремня и кресала… Достаточно вспомнить о схождении Священного огня в Иерусалиме в Великую субботу, чтобы понять, что в славянском и русском Воскресении больше евангельского мистического смысла и опыта события, чем в обыденном греческом термине»16.
Подчеркивая нашу вечную признательность Византии, ученый, тем не менее, доказывает, что и другие важнейшие слова Священного Писания, переведенные с греческого на церковнославянский язык, не только ничего не утратили в смысловом отношении, но напротив, стали изумительными плодами «очень серьезной и самобытной работы, тонких и неожиданных прозрений»17. Это обстоятельство свидетельствует о самостоятельном «религиозно-понятийном пространстве» славянской культуры.
КРУГ — образ Вечности — является наиглавнейшим сакральным символом этого пространства.
Важно отметить, что уже в первом самостоятельном произведении древнерусской литературы — «Слове о Законе и Благодати» митрополита Ила-риона Киевского — выстраивается иерархия: над Прошлым ветхозаветным (Закон) возвышается Настоящее новозаветное (Благодать) и над ними зиждется Вечность (Царство будущего века). Достижение Вечности показано митрополитом Иларионом как обретение главной цели, к которой должна стремиться жизнь человека и вселенной. «Слово о Законе и Благодати» подвигло Г. М. Прохорова к следующему выводу: «Именно “вечностная” культура в рамках одной княжеской власти, как в котле, сваривала множество племен и родов в русский народ»18.
Все ли народы (в том числе немалая часть и народа нашего), некогда христианские, удержали высокую планку ориентации на вечность и не пленились сугубыми попечениями о земных благах и удовольствиях, о земном успехе и богатстве? Ведь Православная Русь многим из них по сей день кажется странной, даже юродивой, поскольку во многом неустроенная, одинокая душа ее, не удовлетворяясь всем тем, чем захвачены остальные, по-прежнему «грустит о небесах». «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли…». Едва ли не первыми на Руси богословскими спорами были споры о рае. Райские образы просматриваются в белокаменном узорочье древнерусских храмов, в золотых росписях Хохломы, в процветшем из черноты, словно светящемся изнутри «космосе» жостовских подносов…
Невидимый Китеж — город праведных, мифологический аналог Небесного Царствия, является одним из важнейших архетипических образов русской культуры. «Китеж — это русский антипод атлантической цивилизации. Атлантида, скрываясь под водой, гибнет. Китеж обретает спасение. Он сокрыт во глубине русской жизни и русской души, он недоступен и неведом мятущейся поверхности мира»19.
В лучших созданиях отечественной словесности во все времена хранилось, если воспользоваться формулой Ф. М. Достоевского, «тайное ощущение живой сокровенной связи нашей с миром иным, миром горним и высшим…»20. Не потому ли у нас на Руси с таким непередаваемым ликованием празднуется Пасха — торжество из торжеств, слава Воскресения Христова и радость всеобщего воскресения к жизни вечной?..
«Знание, принимаемое нашей культурой, имеет сакральный смысл — оно связано с православной энергетикой спасения, — пишет отечественный философ конца XX — начала XXI в. А. С. Панарин. <…> — Вся классическая русская литература синэргетийна — она обращается к человеку не от имени одного только “человеческого, слишком человеческого”, а от имени высшей правды с ее небесным максимализмом»21.
Г. М. Прохоров отмечает, что в эпоху Древней Руси «новосозданный Словоцентрический ансамбль видов творчества, в том числе творчества жизни, мог существовать лишь постольку, поскольку будил волю к жизни, к жизни вообще, призывал жить вечно . П отому-то в годы и века испытаний православных славянских народов этот призыв спасал и будет спасать до конца времен их душу…»22.
Жизнь является важнейшим ключевым словом русской культуры, причем, как показал выдающийся филолог, профессор СПбГУ В. В. Колесов, из триады живот / житие / жизнь в русском языке, в отличие от языков других славянских народов, в конечном счете, восторжествовало последнее. Живот — наиболее древнее слово, означающее биологическую форму существования; житие относится к социальной форме; «духовно-о бщественная, самая высокая по содержанию, предстающая как идеал земного существования — жизнь (“вечная жизнь” — древнейшая формула посмертной жизни духа)»23.
В азбуках славянских — и глаголице, и кириллице — есть одинаково начертанная буква «Ж», «живЪте», означающая повеление: «Живите!» Это чисто славянская буква, ей нет подобия в других алфавитах мира. Она рисовалась в древних книгах как символ жизни: «На рисунке стержень буквы — человек, сплетенный с древом жизни. Раскинутые руки — как вылетающие птицы… Древо жизни врастает в его сердце. Ведь сердце человека — центр, средоточие жизни. Все восходит к нему, и все от него исходит. Все живое переплетено в единый бесконечный узор»24, — так описывает эту букву Н. П. Саблина.
В основе своей русская культура является сотериологической (направленной на спасение для жизни вечной). Греческое слово σωτηρία — спасение , избавление , имеет также значение исцеления .
Принятое у нас приветствие «здравствуйте» свидетельствует о здоровье как приоритетной ценности народного бытия. Неслучайно среди наиболее почитаемых в народе святых — великомученик и целитель Пантелиимон (его имя также цельбоносно и переводится как «всемилостивый» ). Русский монастырь на Афоне носит это святое имя.
Чтобы спасти, т. е. ис цел ить человека и мир, надо восстановить их цел остность. Слово «целый» имеет общеславянский корень цЪл, соответствующий готскому hails, здоровый (отсюда — целебный, исцеление ).
Г. Д. Гачев, известный эстетик и литературовед, который на протяжении более чем тридцати лет осмысливал и описывал различные национальные образы мира, курс своих лекций «Ментальности народов мира» начинает с того, что сравнивает обычное повседневное приветствие на разных языках. «Русский говорит: Здравствуйте , итальянец come sta? (как стоишь), француз и немец, в буквальном переводе, — как идешь, как идется? Иудей сказал бы шалом , что значит мир! Англичанин how do you do? Как дела?» Ученый комментирует: «Уже в простом и повседневном акте взаимного приветствия люди разных народов выражают свои “символы веры”, подчеркивают, что важно для них в существовании. Для русских — здоровье, целостность, для англичан и американцев — работа, труд, для евреев — мир, для итальянцев — статика, вертикальное измерение бытия, для французов и германцев — движение, динамика. Таким образом, уже в повседневной речи мы разговариваем на языке сверхценностей…»25.
Для того чтобы исцелиться, приобщиться к Древу Жизни, необходимо обрести цело мудрие, понятое как чистота и цельность не только плоти, но и ума
(как тело , так и чело должно быть « цело» ). Но именно о мудрости целого постаралось забыть, на беду, если не на гибель свою, современное человечество.
Следует отметить, что в русском слове и словесности проявляется специфичность воприятия Единого и Целого — это тринитарность , воззрение на Св. Троицу как духовный идеал, в котором сосредоточена величайшая тайна Божественного целостного Триединства . Только в Троице видели русские подвижники и мыслители разрешение проблемы соотношения единства и множественности, нераздельности и неслиянности26.
ТРЕУГОЛЬНИК — сакральный графический символ Св. Троицы27.
Тайна Троицы неисследима, в то же время она раскрывается через Христа как Божественное единство в любви.
Перед крестными страданиями, в последний раз беседуя с учениками, Христос призвал их к единству: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин 13:34). И обратился с молитвой к Небесному Отцу: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин 17:21).
Приняв крещение позднее многих других народов, Русь всем существом откликнулась на этот последний призыв Спасителя — на заповедь любви по образу и подобию Св. Троицы. С особым торжеством празднуется у нас Троицын день, когда в храм приносятся в знак торжества Жизни благоухающие березовые ветви и цветы, и наполненная животворной силой Св. Духа земля считается именинницей. По лицу русской земли строятся Троицкие храмы и соборы (в Византии не было подобной традиции). Главным символом русской культуры становится икона прп. Андрея Рублева «Святая Троица» — величайшее чудо небесной красоты, тишины и гармонии.
Отец Павел Флоренский нашел для описания иконы Рублева такие проникновенные слова: «Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый мир, “свышний мир” горнего мира… Вот этот-то неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего…, эту ничему в мире не равную лазурь, более небесную, чем само земное небо, … эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту премирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг перед другом покорность — мы считаем творческим содержанием Троицы»28.
Прп. Андрей Рублев писал свою икону «в память и похвалу преподобному Сергию».
Великий Радонежский игумен был на Руси «таинником» Св. Троицы. Если попытаться найти ключевые слова, чтобы определить дело его жизни, то этими словами будут «единение», «собирание». Сначала среди дремучих лесов на Маковце-горе, ведя суровую подвижническую жизнь, он собирает воедино силы своей души — ум, сердце, волю. (Между прочим, изумительной гармонией своего внутреннего и внешнего облика св. Сергий опровергает утвердившееся мнение о том, что склонность к крайностям — якобы непременное и непреодолимое свой ство русского национального характера.)
Обретя духовное единство и внутреннюю цельность, стяжав неколебимый мир в душе, высветлившись всем существом своим, иными словами, собрав себя , св. Сергий собирает братию и восстанавливает древний общежитийный тип монастыря. Затем, замиряя и наставляя князей, он собирает воедино всю Русь и благословляет ее, в лице князя Дмитрия Донского и воинов- иноков Пересвета и Осляби, на Куликовскую битву.
Прп. Сергию принадлежат слова: «Воззрением на Святую Троицу побеждается страх ненавистной розни мира сего» . В этих словах — смысловое «зерно» нашего существования в мире. Устроение цельного человека и цельной жизни — церковной, государственной, хозяйственной, семейной, сражение с «ненавистной рознью мира сего» — таково стратегическое направление русского бытия и культуры . При этом важно, чтобы каждое единство было ориентировано на высший и совершенный идеал Св. Троицы , иначе любое частное единство может оказаться в противостоянии или вражде по отношению к другим таким же единствам — и тогда «ненавистная рознь» только разгорится. В этом суть завета прп. Сергия и всего сонма русских святых.
Стремление к единству выразилось в таких ключевых словах и выражениях, как «собор», «лад», в пожелании молодым «совет да любовь», в готовности в случае беды помогать «всем миром», в убежденности, что «на миру и смерть красна»; в стремлении крестьян к общинному землепользованию, ремесленников — к артельному труду. Евразийцы видели в таком общем труде корень соборности.
Однако следует отметить, что социальный фактор все же не являлся для названного архетипа первичным и главным. С. С. Хоружий напоминает, что слово «соборный» в Символе веры означает третий атрибут Церкви («Верую во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь»), и оно кажется, на первый взгляд, «вольным» переводом греческого слова καφολικος, которое означает «общее», «всеобщее», «всеобъемлющее», «универсальное». Осмысление этого слова на христианском католическом Западе — «повсеместный», «всемирный», «всеохватный». Что касается православного Востока, то в его значении была усмотрена «не внешняя распространенность, а внутренняя подлинность, истинность». Эта истинность была явлена в решениях семи Вселенских Соборов . Истина, согласно православному учению, не может во всей полноте быть доступной отдельному, индивидуальному сознанию. Она постигается лишь соборным разумом праведных мужей в Духе Святом, Духе Истины.
Общеизвестно, что А. С. Хомяков определил соборность как органическое единство, «живое начало которого есть божественная благодать взаимной любви»29. В силу своей благодатности соборность обязательно предполагает внутреннюю свободу человека. Личность здесь не теряется, как в насильственном единстве, а напротив, находит себя, очищается и растет в общем деле спасения. Соборное свободное единство личностей, по образу и подобию Лиц Св. Троицы, неслиянно и нераздельно. Оно способствует утверждению гармонии, мира, согласия, полноты и цельности во всех областях жизни, при полном сохранении личностной неповторимости, уникальности каждого входящего в это единство человека или народа.
Автору настоящей статьи однажды привелось побывать на интересной и навсегда запомнившейся лекции Виктора Николаевича Тростникова, современного ученого-энциклопедиста, математика, историка, философа, некоторое время жившего и успешно преподававшего на Западе, но вернувшегося в Россию и не так давно упокоенного в родной земле.
На той памятной лекции В. Н. Тростников показал собравшимся три разных схемы размещения Ангелов на иконе Св. Троицы: на первой схеме фигуры Ангелов были расставлены слишком далеко друг от друга; на второй слишком сближены, и только на третьей схеме они были изображены в таком же композиционном соотношении, как и на иконе прп. Андрея Рублева. В первом случае было как бы три отдельных образа, единство отсутствовало. Виктор Николаевич увидел здесь аналог Западной цивилизации, с ее principia individuationis , дистанцированием эгоистически замкнутых на себе субъектов. Вторая схема указывала на иной «идеал» в социальном устройстве человечества: по принципу насильственного коллективизма (как в коммунистической утопии), или восточного деспотизма, или современного глобализма, с утратой неповторимого личностного начала во всеобщей унификации. И только в третьем, композиционно выверенном изображении «неслиянного и нераздельного» единства трех Ангелов, знаменующих три Ипостаси единой Божественной Троицы, можно узреть данный нам свыше идеал для устроения, по этому образу и подобию, соборного человечества: в свободном сочетании универсального и уникального начал во всех и каждом.
Живыми импульсами соборности проникнута русская философия, с ее пафосом восстановления целостности бытия и познания. И. В. Киреевский, под влиянием оптинского старца Макария и чтения византийских духовных авторов, заложил основание философии «цельности духа» , которая определила самобытность русской мысли и культуры. Киреевский первый выдвинул также идею «живого знания», которое исходит из единого «внутреннего ядра» личности и включает в себя, помимо рационального, также этический, эстетический и другие моменты. Эта форма цельного живого знания противостоит отвлеченно-рациональной познавательной форме, свойственной большей части западных философских систем.
Следовало бы обратить особое внимание на ключевые слова и словесные формулы, которыми пользовались отечественные мыслители для обозначения своих главных философских интуиций. У В. С. Соловьева, давшего толчок последующей религиозно-философской мысли Серебряного века, это была интуиция «всеединства». (Трактовка В. С. Соловьевым этого термина подвергалась обоснованной критике, и в конце жизни сам философ увидел в ней определенный соблазн, отразив его в «Трех разговорах».) В данном случае мы лишь фиксируем формулу главной философской интуиции мыслителя, восходящей к соборному архетипу национального сознания, и не даем оценки тем оттенкам смысла, которые могли иметь субъективный уклон и преходящий характер.
-
Н. О. Лосский свою руководящую мысль определил как идею «всепроникающего мирового единства» , «взаимной включенности элементов мира» 30. Еще до высылки из советской России на знаменитом «философском пароходе» в 1922 г. профессор Лосский опубликовал книгу «Мир как органическое целое» — название говорило само за себя. Высланный с ним и другими виднейшими представителями русской мысли С. Л. Франк, по словам В. В. Зеньковского, «более всех потрудился в русской философии, чтобы уяснить момент соборности в природе человека»31. Франк писал о том, что «я» не существует до встречи с «ты» и что категория «мы» является первичной. В способности «схватывать целое» он видел ценность интуитивного познания мира. И. А. Ильин также размышлял о значении интуитивизма. Он одним из первых в философии XX в. начал говорить о «верующем знании» , о «живом тождестве духовного предмета и субъективного духа» . Одна из важнейших формул погибшего в лагерях русского философа Л. П. Карсавина — «Все сущее должно быть соединено, всякое мгновение пронизано любовью» . В статье «Борьба за Логос» еще один замечательный представитель религиозно- философской мысли Серебряного века В. Эрн показывает драматизм борьбы приверженцев философии Слова- Логоса с ratio — этим, по выражению Эрна, «кумиром современности, формальным рассудком, оторванным от полноты и многообразия жизни». «Логос — зовет философию от схоластики и отвлеченности вернуться к жизни и, не насилуя жизни схемами, наоборот, внимая ей, стать вдохновенной и чуткой истолковательницей ее божественного смысла, ее скрытой радости, ее глубоких задач»32. А. Ф. Лосев впоследствии подтвердил: «Русская философская мысль, развивавшаяся на основе греко- православных представлений, в свою очередь, во многом заимствованных от античности, кладет в основание всего Логос. Ratio есть человеческое свой ство и особенность; Логос метафизичен и божествен»33.
Все это нашло соответствующее оформление в языке работ отечественных мыслителей. В «Философии русского слова» В. В. Колесов обращает внимание на то, что они, как правило, старались передавать свои мысли более в образах и символах , чем в понятиях, поскольку понятие расчленяет целое, «омертвляет вещь», переводя ее в сферу абстрактных логических операций. Понятие является промежуточной, хотя и важной и, безусловно, необходимой формой постижения мира. Между тем, «для русской философии традиционно важны начала и концы, а вовсе не промежуточные точки развития, в том числе развития мысли»34.
Быть может, именно потому, что русская философская мысль предпочтительно выражалась в образах и символах, наиболее сильное и полное, наиболее органичное ее воплощение можно найти в русской художественной литературе35.
Тема братской любви является сквозной магистральной темой отечественной словесности — от «Поучения» Владимира Мономаха, от жития Бориса и Глеба, от древнерусского шедевра «Слово о полку Игореве» до таких вершин отечественной классики, как «Вой на и мир» Льва Толстого и «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского.
В «Вой не и мире» есть символический образ глобуса, который увидел во сне Пьер Безухов. Он представлял собой не имеющий размеров шар, поверхность которого состояла из живых, подвижных, колеблющихся капель, перетекающих одна в другую. «В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать Его». Капли расширялись, сжимались, уходили в глубину, потом снова оказывались на поверхности. Подобно этим каплям, в свободном живом единстве пребывали и герои романа — представители родовых дворянских семейств, простые люди из народа, офицеры и солдаты русской армии, все вместе образуя русский мир. Этот мир оказался в состоянии вой ны с Наполеоном. Вой на была неизбежной — в ней просматривается, наряду с историческими причинами, глубокий духовный корень, ибо в образе великого французского полководца, «человека судьбы», сфокусировались главные недуги времени: гордый эгоцентризм, фальшь, отношение к жизни как игре, а к другому человеку и к целым народам — как средству для достижения своих честолюбивых целей. Такого врага можно было одолеть чем-то противоположным — всем «роевым» русским мiром, общими, роднящими разные сословия чувствами, единым соборным духом.
И в зрелых романах Достоевского ведется невидимая брань с ненавистной рознью мира сего: гордому теоретически раздраженному и разделяющему уму героя- идеолога «отвечает» во всех клеточках художественной ткани единая жизнь в ее сложных взаимосвязях. Не в интеллектуальных диспутах, а в ходе жизненных событий опровергается «наполеоническая» теория Раскольникова, в которой человечество делилось, раскалывалось на «тварь дрожащую» и «высший разряд», власть и право имеющий переступать через законы Божеские и человеческие. В «Братьях Карамазовых» умный брат Иван выдвигает в главе «Бунт» ряд логически неопровержимых аргументов: взрослый человек низок, подл и грешен, его страдание им заслужено. Но чем объяснить, как оправдать страдание невинного ребенка? Поставив сильнейший вопрос о слезинке ребенка, утверждая через него свое право на бунт и на суд, Иван прибегает к хорошо замаскированному приему, который сводится к лозунгу «разделяй и властвуй». Разделив и противопоставив Творца и творение, отцов и детей, страдание и радость, любовь к человеку и уважение к нему, Иван нарушает закон всеобщих связей, и благодаря этому не сразу заметному нарушению торжествует теоретическую победу. Кроме того, бунт его основан не только на разрыве мировых связей, но и на исключении себя из этих связей. Точно так же ведет себя мрачный старец, герой его знаменитой «Легенды», занятый «счастливым» устроением тех, кого презирает и кому в гордыне противопоставляет себя. Его «гармония» основана не на страдании, а на лжи. Даруя людям, этим «слабым недоделанным существам», свободу грешить, он крадет у них вечность. Достоевский пророчески предсказал современный проект устроения мира и управления людьми с помощью попустительства «свободе» любого греха под маской «гуманизма» и «толерантности». Писатель использовал весь арсенал художественных средств, чтобы развенчать столь опасную, столь защищенную хитроумными доводами позицию Ивана и Инквизитора. Жизнь в его романе, в отличие от теоретических построений героя- идеолога, дает свои, подчас неожиданные и никак не поддающиеся схемам, свидетельства о себе. И оказывается, что дети чрезвычайно связаны со взрослым миром, взрослыми проблемами и что очень много детского во взрослых (в том числе и в самом Иване). Оказывается, что даже смерть ребенка может иметь просветляющий и объединяющий смысл (об этом говорил Алеша на похоронах Илюшечки Снегирева). Оказывается, что любовь к людям неотделима от уважения к ним, и что всегда остается надежда на возможность победы добра в их душах.
В романе содержатся две формулы, в которых выражены самые главные духовные постулаты Достоевского: «Все перед всеми и за всех виноваты» и «Всё как океан, всё течет и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдается» . Это подтверждено многовековым опытом русской истории и культуры. И в XX в. тема соборности на новой глубине, с учетом нового исторического опыта разрабатывалась Александром Блоком и Николаем Гумилевым, советскими писателями Михаилом Шолоховым, Андреем Платоновым, Александром Твардовским, писателями-фронтовиками и писателями- деревенщиками, лучшими представителями литературы и философии русского зарубежья.
Таким образом, соборные ценности нашего народа, возникшие в глубокой древности, были на большой глубине осмыслены русскими писателями36 и философами.
Итак, попробуем подвести некоторые итоги.
Самоназвание славян указывает на приоритетное значение слова в их племенной самоидентификации и во многом объясняет словоцентризм русской культуры. А славянское «слово» в его этимологии свидетельствует об установке на чуткое вслушивание в тайну каждой вещи, каждого явления — в тайну бытия, а после принятия христианства — по- слушание Божественному Слову.
Пространственно-в ременные координаты русской языковой картины мира позволяют выявить смысловые универсалии — архетипы, символы культуры (Крест, Преображение, Воскресение, Троичность, соборность). Важны и культуроспецифические слова, появление которых связано с а) пространственными масштабами России и широтой русской души (простор, раздолье, приволье, воля и др.) и б) особым восприятием времени, существованием его обратной перспективы (передние веки) и ориентацией на вечность.
На всех своих уровнях, во всех проявлениях и на всех этапах своего существования русская культура и неразрывно связанное с нею русское слово несут идею цельности человека и мира как главную ценность и цель бытия. Философия ориентирована на цельное знание. Литература свидетельствует о целостном единстве мира и призывает к братскому единству людей. Размышляя на эту тему, акцентируя внимание к ней со стороны древнерусского летописца, который искал образец для подражания в «передних веках», В. Я. Пропп писал исследователю древнерусской культуры И. П. Еремину: «Возможно, что мечта о прошлом есть только способ выражения мечты о будущем»37.
Так сходятся альфа и омега, ретроспектива и перспектива нашей истории и культуры.
Список литературы Сакральные архетипы и символы святой Руси
- Байдин В. Древнерусское предхристианство. СПб.: Алетейя, 2020. 352 с.
- Байдин В. Под бесконечным небом. Образы мироздания в русском искусстве. М.: Искусство — XXI век, 2018. 368 с.
- Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык // Его же. Исцеление языка. Опыт национального самосознания. Работы разных лет / Сост. А. А. Чех. СПб.: Библиополис, 2005. 520 с.
- Гачев Г. Ментальности народов мира. М.: Эксмо Алгоритм, 2008. 541 с.
- Георгиев Э. Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. София, 1952.
- Дегтев С. В., Макеева И. И. Концеп. слово в истории русского языка // Язык о языке: сборник статей / Под ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 156-171.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 14. Л.: Наука, 1976. 511 с.
- Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 1995. 288 с.
- Зеньковский В.В. История русской философии: в 2 т. Т. 2. Париж, 1989. 469 с.
- Кипарский В. Р. О происхождении глаголицы // Климент Охридский. Материалы за неговото чевстуване по случай 1050 година от смърта му. София, 1968.
- Колесов В.В. Преображение слова. СПб: Изд-во Общества игум. Таисии, 2006. 367 с.
- Колесов В.В. Философия русского слова. СПб.: ЮНА, 2002. 448 с.
- Красухин К.Г. Слово, речь, язык, смысл: индоевропейские истоки // Язык о языке: сборник статей / Под ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 23-45.
- Лисовой Н. Н. Русское Православие — в языке, литературе, школах перевода // Духовный потенциал русской классической литературы: сборник научных трудов. М., 2007. С. 66-76.
- Лихачев Д. С. Величие древней литературы // Библиотека литературы Древней Руси (БЛДР). Т. 1: X-XI вв. СПб., 1998. С. 14-24.
- Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Мысль, 1991. 987 с.
- Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. Париж, 1938.
- Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002. 496 с.
- Петрухина Е. В. Русская языковая картина мира и православное сознание // Виноград. 2007. № 3 (19). С. 6-11.
- Прохоров Г.М. «Некогда не народ, а ныне народ Божий.». Древняя Русь как историко-культурный феномен. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2010. 320 с.
- Прохоров Г.М. Глаголица среди миссионерских азбук // ТОДРЛ. СПб., 1992. Т. 45. С. 178-199.
- Прохоров Г.М. Крестообразность времени или Пушкинский Дом и около. СПб.: Искусство России, 2002. 159 с.
- Саблина Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами церковно-славянской грамоты. М., 2013.
- Сокурова О.Б. Слово в истории русской культуры: дисс. . д-ра культурологии. СПб., 2013. 390 с.
- Сокурова О. Россия: путь креста // Русский крест: сборник статей. СПб., 1994. С. 79-108.
- Сокурова О. Б. Слово в истории русской духовности и культуры: монография // История и культура. Вып. 10. СПб., 2013. 392 с.
- Флегонтова С. М. Атлантида и град Китеж // Русский крест: сборник статей. СПб., 1994. С. 24-44.
- Флоренский П. А. Троице-Сергиева Лавра и Россия // Троица Андрея Рублева. Антология. М., 1989. С. 52-54.
- Фрагменты ранних греческих философов. Часть 1. М.: Наука, 1989. 575 с.
- Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. 2. Прага, 1867.
- Эрн В. Борьба за Логос. Опыты философские и критические // Его же. Соч. М.: Изд-во «Правда», 1991. С. 11-297.