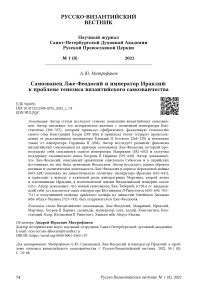Самозванец Лже-Феодосий и император Ираклий: к проблеме генезиса византийского самозванчества
Автор: Митрофанов Андрей Юрьевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Византиноведение
Статья в выпуске: 1 (8), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи исследует генезис появления византийских самозванцев. Автор связывает это историческое явление с политикой императора Константина (306-337), который приказал сфабриковать фальшивую генеалогию своего отца Констанция Хлора (293-206) и приписал этому тетрарху происхождение от родственников императора Клавдия II Готского (268-270) и возможно также от императора Гордиана II (238). Автор исследует развитие феномена византийских самозванцев на примере самозванца Лже-Феодосия, который провозгласил себя спасшимся сыном императора Маврикия (582-602) и получил поддержку сасанидского шаха Хосрова II Парвиза (591-628). Автор доказывает, что Лже-Феодосий, описанный армянским епископом Себеосом и в сирийских источниках, не мог быть истинным Феодосием. Автор исследует, каким образом военная и политическая деятельность Лже-Феодосия в период персидской войны (603-628) повлияла на династическую политику императора Ираклия (610-641), и приходит к выводу о ключевой роли императрицы Мартины, второй жены и племянницы Ираклия, в политической жизни Византийской империи после 623 г. Автор доказывает, что новый самозванец Лже-Тиберий, в 720-е гг. выдававший себя за спасшегося сына императора Юстиниана II Ринотмета (685-695; 705- 711) и получивший помощь арабского халифа из династии Омейядов Хишама ибн Абдул-Малика (723-743), был подражателем Лже-Феодосия.
Византийские самозванцы, лже-феодосий, маврикий, ираклий, мартина, хосров ii парвиз, сасаниды, император, шах, халиф, константин, констанций хлор, юстиниан ii ринотмет, хишам ибн абдул-малик
Короткий адрес: https://sciup.org/140297531
IDR: 140297531 | УДК: 94(495) | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_1_74
Текст научной статьи Самозванец Лже-Феодосий и император Ираклий: к проблеме генезиса византийского самозванчества
Проблема византийского самозванчества представляется одним из самых сложных парадоксов истории Восточной Римской империи. Подобно знаменитым Лже-Неронам, действовавшим в период кровопролитной гражданской войны 69 г. между Вителлием и Веспасианом, византийские самозванцы появлялись на исторической сцене в наиболее смутные периоды, когда легитимность действующей императорской власти была дискредитирована военной узурпацией. Уже основатель Константинополя император Константин (306–337) прибегал к действиям, которые могут быть квалифицированы как самозванчество. В период борьбы с Максенцием (306–312) Константин приказал своим придворным панегиристам сочинить подложную генеалогию своего отца Констанция Хлора (305–306), согласно которой этот тетрарх, простолюдин из иллирийских провинций, обязанный своим выдвижением благосклонности своего земляка Диоклетиана (284–305), был объявлен внучатым племянником императора Клавдия II Готского (268–270). Константин нуждался в укреплении своего авторитета после того, как август Максимиан Галерий (305–311) дважды отказывался признать его равноправным себе1. Соперник Константина Максенций был сыном соправителя Диоклетиана августа Максимиана Геркулия (285–305) и его жены знатной ассириянки Евтропии. Константин же был сыном младшего тетрарха, ставшего августом только после отставки Диоклетиана и Максимиана Геркулия, и его конкубины Елены [Zosim., II, 8, 9]. Этим обстоятельством и объясняется стремление Константина повысить свой авторитет в армии и в распадающейся тетрархии при помощи фабрикации фальшивого происхождения. По-видимому, обман мог быть слишком очевиден для многих солдат и офицеров, которые некогда служили под командованием Клавдия II, поэтому Константин проявил «скромность» и приписал своему отцу происхождение не непосредственно от императора, а от племянницы Клавдия II Евтропии, дочери его брата Криспа [SHA Divus Claudius, XIII, 2]. По мнению современных исследователей, ни Евтропия, ни Крисп в действительности никогда не существовали. Следует отметить, что Константин, возможно, был знаком со сплетнями, согласно которым отцом Клавдия II будто бы являлся император Гордиан II (238), а матерью была некая женщина, которая, по свидетельству Псевдо-Аврелия Виктора, обучала юного Гордиана любовным утехам для последующего бракосочетания с благородной матроной [Epit., 34, 2]. Объявляя своего отца внучатым племянником Клавдия II, Константин в глазах общественного мнения делал свое происхождение еще более древним и связывал его с Гордианом II и тем самым с его отцом и соправителем Гордианом I (238).
«Самозванчество» Константина стало традицией в последующие века византийской истории. В данной статье мы хотели бы остановиться на одном из наиболее ранних эпизодов из истории византийского самозванчества, который имел место в эпоху, когда Византия во многом еще оставалась носительницей римской культуры, римского национального самосознания и латинского языка. Этим эпизодом стало трагическое выступление самозванца, известного как Лже-Феодосий, объявившего себя императором Феодосием2, чудесным образом спасшимся сыном и соправителем императора Маврикия (582–602). Лже-Феодосий получил признание и серьезную военную помощь сасанидского шаха Хосрова II Парвиза (591–628).
Обстоятельства кровавого переворота, произошедшего в Константинополе в ноябре 602 г., хорошо известны благодаря историческому повествованию секретаря императора Флавия Ираклия (610–641) Феофилакта Симокатты. Император Маврикий был свергнут восставшей дунайской армией, командование которой было недовольно приказом императора оставаться зимовать на левом берегу Дуная и продолжать там борьбу с аварами. Не исключено, что подобный приказ Маврикия был связан с планами императора уничтожить Аварский каганат и восстановить власть империи на бывших территориях римской Дакии, которая была оставлена при Аврелиане (270–275) и на короткое время вновь завоевана при Константине (306–337). Обстановка, сложившаяся на дунайской границе еще в последние годы царствования Юстиниана I (527–565), оставалась крайне напряженной, ибо авары, кочевники монгольского или маньчжурского происхождения, подчинившие своей орде различные тюркские и славянские племена, рассматривали балканские провинции империи как территорию своей экспансии3.
Подразделения дунайской армии самовольно отступили на римский берег Дуная, а затем, опасаясь наказания за неподчинение приказу, подняли мятеж и начали марш на Константинополь. Солдаты провозгласили своим императором одного из офицеров по имени Фока, который торжественно вступил в Константинополь и 28 ноября 602 г. был коронован патриархом Кириаком II (595–606) в храме Иоанна Крестителя [Theoph. Sim., VIII, 10. 6]. Узурпатор возложил императорский венец на свою жену, новоиспеченную императрицу Леонтию, которой устроили триумфальный выезд на императорской колеснице по улицам столицы [Theoph. Sim., VIII, 10. 9]. Маврикий бежал из Константинополя и подобно тетрарху Лицинию отплыл в Халкидон. Из Хал-кидона он отослал своего сына и соправителя Феодосия вместе с префектом претория Константином Лардисом в Никею, откуда они должны были отправить послов к персидскому шаху с просьбой о помощи. Как рассказывает Феофилакт, Маврикий просил сына напомнить Хосрову II о благодеяниях, оказанных им прежде персидскому шаху. Маврикий показал Феодосию перстень и приказал не возвращаться в Халкидон до тех пор, пока он вновь не увидит этого перстня [Theoph. Sim., VIII, 9. 11–12].
Надежды Маврикия на персов были связаны с тем, что в 590–591 гг. император принял беглого сасанидского принца Хосрова II по прозвищу Парвез и оказал военную поддержку изгнаннику. В этот период персидский престол был захвачен узурпатором Бахрамом Чубином (590–591), отпрыском старинного парфянского рода Мехранов и знаменитым победителем тюркютов4. В ходе гражданской войны Хосров, опираясь на верную персидскую знать и римскую армию, разбил Бахрама Чубина и отвоевал отчий престол. Бахрам бежал к своим старым врагам в земли Тюркского каганата, где вскоре пал жертвой ин триг и был убит, подобно легендарному царевичу
Сиявушу [Фирдоуси, II, 1960, 118–174]. Вспоминая теперь о помощи, некогда оказанной Хосрову, Маврикий надеялся на то, что иранский шах уплатит моральный долг. Маврикий, вероятно, не забывал о том, что Хосров уже расплатился с римлянами за оказанную помощь землями в Персoармении и после переворота в Константинополе был лишь заинтересован в дальнейшем ослаблении римлян. Однако персы оставались последней надеждой свергнутого императора.
Тем временем Фока, опиравшийся на поддержку дунайской армии и партии пра-синов, встретил активное сопротивление партии венетов, которые отказывали представителям узурпатора в повиновении на основании того, что Маврикий еще жив [Theoph. Sim., VIII, 10. 13]. Как отмечает Феофилакт, это обстоятельство подтолкнуло Фоку к расправе над Маврикием, который был схвачен солдатами Фоки в Халкидоне вместе с сыновьями и казнен вместе с ними на пристани Евтропия. Что же происходило в это время с Феодосием? Судьба его была по истине трагической. В тот момент, когда Фока уже отдал приказ об убийстве Маврикия и его сыновей, свергнутый император, еще не зная о своей участи, то ли понял, что борьба проиграна, то ли разочаровался в своих надеждах получить помощь от Хосрова. Как отмечает Феофилакт, Маврикий отправил в Никею гонца с перстнем, приказывая Феодосию немедленно вернуться к нему. Феодосий поспешил исполнить волю отца и прибыл в Халкидон как раз в тот момент, когда отец и братья уже были схвачены, т. е. приехал на собственную казнь [Theoph. Sim., VIII, 11. 1–2]. Согласно рассказу Феофилакта, который повторяется Феофаном, кормилица одного из сыновей Маврикия, еще младенца, перед казнью попыталась подменить его своим грудным ребенком. Однако Маврикий проявил благородство, достойное древних римлян, и не принял жертву этой самоотверженной женщины [Theoph. Sim., VIII, 11. 5]. Для нас этот эпизод важен тем, что попытки спасения наследников Маврикия предпринимались верными людьми буквально накануне казни. Это обстоятельство впоследствии могло стать источником слухов о спасении кого-то из сыновей Маврикия, например, взрослого Феодосия.
Кровавый переворот Фоки стал первой успешной вооруженной узурпацией императорского престола в Восточной Римской империи со времен восстания Прокопия (365–366), последнего представителя династии Констанция Хлора5, если, конечно, не считать кратковременной узурпации Василиска (475–476), которая не сопровождалась широкомасштабными боевыми действиями и носила относительно бескровный характер. Через несколько лет, в 605 г., Фока приказал пытать и казнить вдову Маврикия императрицу Константину и всех ее дочерей — за то, что Константина приняла участие в заговоре против узурпатора.
Однако политическая судьба Феодосия не закончилась его убийством. Из рассказа Феофилакта следует, что убийство Феодосия было произведено в Халкидоне Александром, подручным узурпатора6, причем отдельно от казни Маврикия и остальных его сыновей. Прибыв в Халкидон, Феодосий скрывался в храме мученика Автонома и был там же зарезан Александром, а префект претория Константин Лардис был арестован и отправлен в вифинский город Диадромы, где также казнен. Вскоре в народе начали распространяться слухи о том, что в действительности Феодосий сумел спастись. Фео-филакт подробно опровергает эти слухи. Согласно их пересказчикам, Александр был подкуплен патрицием Германом, тестем Феодосия7, и зарезал какого-то человека, похожего на Феодосия, а сам император между тем бежал на Восток, вероятно в Персию, а затем на Кавказ, добрался до Колхиды, где и скончался [Theoph. Sim., VIII, 13. 4]. Главным аргументом сторонников версии о спасении Феодосия стало то, что его голова не была представлена народу после казни, в то время как головы Маврикия и других его сыновей были посажены на копья, выставлены на всеобщее обозрение и оставались там до тех пор, пока не разложились [Theoph. Sim., VIII, 13. 6]. Кроме того, версия о спасении Феодосия могла косвенно подтверждаться тем, что Фока приказал казнить Александра после того, как узнал о том, что в народе поползли слухи о спасении свергнутого императора [Theoph. Sim., VIII, 15. 8]. Что стояло за подобным решением Фоки? Болезненная подозрительность узурпатора, поверившего сплетням плебеев, или же то, что Александр солгал своему господину и дал возможность Феодосию бежать?
Феофилакт говорит о том, что он тщательно расследовал дело Феодосия и нашел его в числе убитых, вероятно, в каких-то официальных документах, содержавших списки казненных в период террора [Theoph. Sim., VIII, 13. 5]. Можем ли мы доверять Феофилакту, исследуя историю Феодосия? Феофилакт писал свой труд во второй половине царствования Ираклия (в 630-е гг.), к тому же он был его приближенным. С объективной точки зрения, Феофилакт был заинтересован в том, чтобы удостовериться в смерти Феодосия и убедить в этом своего императора. В противном случае оказывалось, что прав был персидский шах Хосров II, который считал Ираклия таким же узурпатором, каким был Фока, и который начал войну против Византии, выступая как мститель за своего благодетеля и тестя Маврикия. Феофилакт вынужден был признать, что поводом для начала войны между империей и сасанидским Ираном в 603 г. стал именно переворот Фоки и убийство Маврикия и членов его семьи. На фоне этих событий появление в народе слухов о том, что старший сын Маврикия Феодосий жив, представлено в изложении Феофилакта как результат действия персидской пропаганды [Theoph. Sim., VIII, 15. 7–8].
Но были ли подобные слухи плодом персидской пропаганды в действительности? Благодаря Софронию Иерусалимскому известно, что новости о чудесном спасении Феодосия распространились в Александрии, а игумен одного из местных монастырей по имени Мина был даже обвинен кем-то из своих недоброжелателей в укрывательстве Феодосия [Sophr. Anacr., 21]8. Армянский историк второй половины VII в., епископ Себеос, подтверждает, что после казни Маврикия и его сыновей «по всей земле» разнеслась молва о том, что Феодосий сумел спастись и бежал к персидскому шаху. Это породило смуты в римском государстве [Себеос, 1862, 79]. Себеос как историк, оставивший наиболее детализированное описание военных кампаний императора Ираклия, сообщает нам достаточно подробные сведения о дальнейшей судьбе мнимого Феодосия9. В последующем изложении Себеос именует появившегося самозванца не иначе как «императором Феодосием», который был назван сыном Маврикия [Себеос, 1862, 85]. Себеос разделяет сомнения в происхождении самозванца, но признает его фактический статус императора в изгнании, дарованный ему Хосровом II.
Начало последней войны между римлянами и персами описывается поздним византийским историком Феофаном. Феофан следует за Феофилактом и утверждает, что после казни Маврикия и его сыновей в народе распространилась молва о том, что Феодосий жив, а персидский шах Хосров воспользовался этой молвой в коварных целях овладеть римским престолом. Известный византинист Пауль Шпек датировал источники Феофана, повествующие о событиях 602–603 гг., концом правления Ираклия, примерно 630-ми гг.10 Не исключено, что одним из этих источников могло быть утраченное сочинение Феофилакта о царствовании Ираклия, ибо известно, что Феофилакт, бывший секретарем этого императора, собирался описать его деяния в качестве продолжения своей сохранившейся истории Маврикия. Это обстоятельство имеет для нас чрезвычайно важное значение, ибо правильная интерпретация рассказа Феофилакта о Феодосии поможет нам в расследовании истории самозванца Лже-Феодосия. Если придворные историографы, работавшие при Ираклии, были заинтересованы в том, чтобы дискредитировать Лже-Феодосия, и настаивали на убийстве реального Феодосия в Халкидоне, какие события сопровождали появление мнимого Феодосия на Востоке после его «спасения»?
Из повествования Феофана следует, что в то время, как Хосров II собрал войска и атаковал приграничные районы империи, Фока направил к шаху посла по имени Лилий. Хосров арестовал посла и заточил его в ктесифонской тюрьме, Фоку же признавать императором отказался. Эти события, вероятно, стали сигналом для римского военачальника Нарсеса, армянина по происхождению, который в 603 г. во главе верной дружины захватил Эдессу и направил послание Хосрову с просьбой о помощи. Нарсес никогда бы не решился на подобный отчаянный шаг, если бы не был твердо уверен в том, что персидский шах не признает Фоку и намерен начать войну. Фока отправил Германа подавлять восстание, но Герман столкнулся недалеко от Эдессы с главными персидскими силами, был разбит и смертельно ранен. Затем Хосров захватил Дару, где сосредоточил свою армию. Фока направил против Нарсеса новый отряд под командованием евнуха Леонтия, в результате чего Нарсес был вынужден отступать из Эдессы в Иераполь. Около Арксамуна Хосров дал римлянам бой и разгромил Леонтия, используя подразделения боевых слонов. Через некоторое время новый римский командующий Доменциол убедил Нарсеса перейти на сторону империи, обещая прощение Фоки. Нарсес поверил Доменциолу и сдался римлянам, после чего Фока нарушил свое обещание, и Нарсес, именем которого персидские женщины некогда пугали своих детей, был сожжен живьем как изменник [Theoph. AM., 6095–6097].
Восстание Нарсеса упоминается также Себеосом, который рассказывает о первом появлении самозванца. Согласно Себеосу, когда войска Хосрова подошли к стенам Эдессы, Нарсес приказал открыть ворота и вывести из города отрока в императорской порфире с диадемой на голове. Нарсес сообщил Хосрову: «Вот сын императора Маврикия — Феодосий. Окажи ему милость, которую отец его оказал тебе» [Себеос, 1862, 80]. Нарсес, разумеется, имел в виду роль Маврикия в победе над Бахрамом Чу-бином и в возвращении Хосрову персидского трона. Хосров принял отрока и одарил его царскими почестями. Далее Себеос сообщает о том, что в 606–607 гг. самозванец находился в штабе персидского военачальника Аштата Йезтайяра во время его похода в Армению. Именно Лже-Феодосий убедил римский гарнизон Феодосиополя (Эрзурум) сложить оружие и сдать крепость персам [Себеос, 1862, 84–86].
Сирийские источники, в частности Хузистанская Хроника, а также Хроника Сеерта, единогласно утверждают, что Феодосий смог спасти свою жизнь и бежал к Хосрову II. Автор Хузистанской Хроники, важнейшего источника VII в., написанного на сирийском языке11, отмечает, что Феодосий спасся и бежал к Хосрову, который принял его с почестями, дал войско и приказал несторианскому католикосу короновать его в качестве римского императора венцом, возложенным перед этим на алтарь [Nöldeke, 1893, 15–16]. Автор Хроники Сеерта, несторианского сочинения XI в., сохранившегося в арабском переводе, также полагает, что Феодосий бежал и был принят Хосровом II, коронован, затем принимал участие в осаде персами Дары и был кем-то отравлен [Chr. Seert., 79 PO 8. 519–520]. Вероятно, сирийские источники восходят к официальной персидской хронике Кватав-Намаг или же документам сасанидского двора, в которых отстаивалась подлинность происхождения Лже-Феодосия.
В действительности Лже-Феодосий мог быть кем-то из дружинников Нарсеса, который, опираясь на слухи о спасении Феодосия, вызвался играть роль убитого императора. Нарсес был заинтересован в подобном развитии событий для того, чтобы прибавить себе политического веса на переговорах с Хосровом II, для того чтобы заинтриговать персидского шаха, который уже объявил о непризнании Фоки императором, новыми и амбициозными политическими перспективами. Возможна и альтернативная версия событий, исходя из которой в самозванце в этот момент был заинтересован прежде всего сам Хосров. Персидский шах мог использовать самозванца в борьбе против Фоки как политический козырь и привлечь таким образом на свою сторону симпатии существовавшей в Константинополе политической оппозиции, до 605 г. группировавшейся вокруг вдовствующей императрицы Константины. Наконец, Лже-Феодосий мог быть кем-то из беглых римлян, спасавшихся от террора Фоки, или фанатиком, уверовавшим в свое императорское происхождение. Как уже было отмечено, сирийские источники сообщают, что по приказу шаха уже в 603–604 гг. самозванец был коронован в Ктесифоне несторианским католикосом Сабришо I (596–604) в качестве римского императора. Следовательно, Хосров рассматривал Лже-Феодосия как серьезную политическую фигуру, на которую рассчитывал опереться в борьбе за Константинополь.
Гражданская война, начавшаяся в Египте между сторонниками Фоки и Ираклия Старшего после отпадения Африки от Константинополя, привела к смене политической повестки в этой провинции. Слухи о чудесном спасении Феодосия были легко забыты. Коптский епископ Иоанн Никиусский, знаменитая «хроника» которого сохранилась в древнеэфиопском переводе, отмечает, что осенью 610 г. александрийские матросы вслед за жителями византийской Африки быстро признали императором Ираклия Младшего [Zotenberg, 1883, 432]. 5 октября 610 г. Ираклий Младший высадился в Константинополе и был провозглашен августом вместе со своей невестой Фабией, затем Ираклий и Фабия были коронованы, между ними был заключен брак, а Фабия приняла тронное имя Евдокии [Chron. Pasch., 701, 11–13]12. Фока, успевший утопить в Босфоре «золотой запас» империи, был арестован и подвергнут мучительной казни, подробно описанной Иоанном Никиусским, возможно, по воспоминаниям очевидцев [Zotenberg, 1883, 432]. Когда Хосров II узнал о захвате Константинополя карфагенским флотом и о новом перевороте Ираклия Младшего13, шах отказался признавать Ираклия императором и заявил его послам: «Это (Константинополь) — моя империя, и я возвел на престол Феодосия, сына Маврикия» [Себеос, 1862, 87].
Следует отметить, что Ираклий не был признан в качестве императора не только Хосровом II, но даже некоторыми византийскими военачальниками. В частности, брат Фоки, Коментиол, командующий византийской экспедиционной армии, сосредоточенной в Сирии, перезимовав в Анкире, в начале 611 г. поднял мятеж против Ираклия и начал наступление на Константинополь. Во время ночного привала в одной из провинций Малой Азии Коментиол был убит патрикием Юстином, командиром армянского подразделения [Festugière, 1970, I, 121–123]14. Мятеж Коментиола нашел отражение в литературном произведении, созданном в эпоху императора Константа II (641–668) и известном как «Житие Феодора Сикеота». Автор «Жития» опирается на источники, относящиеся к началу правления Ираклия, и рассказывает читателю не только о мятеже Коментиола, но и о захвате персами Кесарии Каппадокийской, который произошел вскоре после убийства Коментиола сторонниками Ираклия [Festugière, 1970, I, 123–124]. Возможно, Коментиол и Хосров II поддерживали связь через гонцов и действовали синхронно.
Был ли связан мятеж Коментиола с его личной верностью свергнутому брату, или же в действительности Коментиол, узнавший о его свержении, решил встать на сторону Лже-Феодосия? Этот вопрос остается открытым. Тем временем боевые действия между римлянами и персами продолжались. Ираклий направил в Армению армию под командованием иерея Филиппика, который был вынужден сложить с себя священный сан, в который был посвящен за участие в политических интригах еще при Маврикии, и вернуться на военную службу. Филиппик дошел до Вагарша-пата и дал персам кровопролитное сражение, но затем отступил. Персы не могли преследовать римлян из-за крайнего истощения конского состава своей кавалерии [Себеос, 1862, 89]. В ходе новой армянской кампании следы Лже-Феодосия теряются. Самозванец мог погибнуть в бою, сражаясь на стороне персов. В том случае, если Феофилакт действительно сообщил нам остатки достоверной разведывательной информации первого периода римско-иранской войны, мы можем допустить, что самозванец все-таки выжил в ходе армянской кампании и получил от Хосрова в награду за службу владения на Кавказе (в Колхиде), где скончался [Theoph. Simoc., VIII, 13. 4] или, как свидетельствует Хроника Сеерта, был отравлен. Если он был отравлен, то кем? Либо римскими шпионами, либо персами, которым самозванец был более не нужен в связи с изменением характера войны и превращения ее в войну религиозную.
22 января 613 г. Ираклий провозгласил своего сына от Фабии (Евдокии)15, младенца Ираклия Константина, которому не исполнилось еще и года, августом и соправителем, а также объявил о его обручении с Григорией16, маленькой дочерью своего кузена Никиты. Нельзя исключать, что подобный демарш был предпринят Ираклием не столько из желания подражать Константину Великому и основать династию, сколько именно для того, чтобы тем самым нейтрализовать опасность, исходившую в этот период от самозванца Лже-Феодосия и от его покровителя Хо-срова II. Следовательно, кончина Лже-Феодосия произошла только после января 613 г., накануне нового широкомасштабного персидского наступления. Не исключено, что именно кончина (или физическое устранение Лже-Феодосия) подтолкнула Хосрова II к изменению характера войны. После 613 г. Хосров II сбросил маску и продолжил войну против римлян теперь уже не от имени самозванца, но во имя зороастрийской ортодоксии. В 614 г. персидские войска под командованием Фарру-хана Шахрбараза захватили Иерусалим, устроили массовые казни христиан в этом городе и вывезли в качестве трофея древо Животворящего Креста [Theoph. AM, 6106]17, найденного, согласно рассказу Сократа Схоластика, матерью Константина Великого (306–337), императрицей Флавией Еленой (ок. 250–328) [Socr. Schol., HE I, 17]. В 615/617 гг. персы завоевали Египет вместе с Александрией и дошли до границ Эфиопии [Niceph., 1837, 10], а затем, по мнению Пауля Шпека, совершили марш через Киренаику и захватили Карфаген18, создавая угрозу владениям Восточной Римской империи на Сицилии и в южной Италии. Хосров II в письмах к императору Ираклию позиционировал себя в качестве открытого врага христианства, требовал от римлян отречения от Христа и принятия зороастризма [Theoph. AM, 6109; Cебеос, 1862, 100–101]. Подобное направление персидской политики было возможно только в том случае, если Хосров II отказался от поддержки Лже-Феодосия, коронованного несторианским католикосом. Была смерть Лже-Феодосия причиной или следствием подобного направления персидской политики — еще предстоит определить будущим исследователям.
Пауль Шпек, ссылаясь на мнение Кирилла Манго, полагал, что брак Ираклия Константина и его невесты Григории, прибывшей в Константинополь из византийской Африки, был заключен в период, предшествовавший 1 сентября 629 г., т. е. за девять месяцев до рождения будущего императора Константа II (641–668) (7 ноября 630 г.)19. Следовательно, Ираклий Константин смог реализовать планы отца и продолжить династию только спустя много лет после исчезновения Лже-Феодосия, когда уже были мертвы как сам самозванец, так и его покровитель Хосров II. В 613 г. Ираклий увидел угрозу не там, откуда ей в итоге суждено было прийти. Ираклий опасался самозванца и не догадывался, что главным конкурентом его сына со временем станет императрица Мартина, его собственная племянница и вторая жена. Подобно своей предшественнице, императрице Феодоре, Мартина умело использовала свою красоту и обаяние в качестве политического оружия20. Однако в отличие от Феодоры, которая нашла себе биографа в лице личного врага, Прокопия, Мартина осталась без собственного историка, а ее деятельность оказалась дискредитирована позднейшей пропагандой, созданной при дворе ее победителя Константа II.
Пауль Шпек отмечал, что через два месяца после смерти Фабии/Евдокии от эпилептического припадка 13 августа 612 г., 4 октября, Ираклий короновал в качестве августы в храме святого Стефана их годовалую дочь Епифанию/Евдокию [Chron. Pasch., 703, 5]. Этот факт, по мнению историка, свидетельствует о том, что Ираклий не имел намерения вступать в брак после смерти Фабии. По свидетельству Феофана, в 617 г. Ираклий, в письме аварскому кагану Баяну II, назвал кагана опекуном своего сына [Theoph. AM, 6113], что, по мнению Пауля Шпека, означает только одно: в это время Ираклий не имел других сыновей, кроме Ираклия Константина. Перед отправлением в поход против персов весной 623 г. Ираклий с семьей, подобно императору Константину, отпраздновал Пасху в Никомедии. На празднике вместе с Ираклием присутствовали его племянница и новая жена Мартина, а также дети Ираклия от первого брака: Ираклий Константин и Епифания. После Пасхи дети вернулись обратно в Константинополь, а Мартина отправилась вместе с Ираклием к армии и далее в зону боевых действий [Chron. Pasch., 713, 19–714, 8]. С точки зрения исследователя, это обстоятельство говорит о том, что в 623 г. у Ираклия и Мартины еще не было детей, а значит, их брак был заключен совсем недавно, возможно, в самом начале 623 г., но никоим образом не зимой 613–614 гг., когда не прошло еще и двух лет со дня смерти первой жены Ираклия императрицы Фабии21. Гипотеза Пауля Шпека представляется нам вполне обоснованной и вносящей определенную логику в хаотическое нагромождение событий царствования Ираклия, известных нам в изложении Феофана.
Мартина, обладавшая не только красотой и энергией, но также умом и харизмой, положительно повлияла на Ираклия, способствовала его выходу из многолетней депрессии, стала его вдохновительницей и соработницей в период персидских походов 620-х гг., в ходе которых и родились их первые дети. Об этом свидетельствуют протоколы императорского двора, следы которых присутствуют в современной правлению Ираклия Пасхальной Хронике и в «досье» Георгия Синкелла, ставшем в начале IX в. основой повествования Феофана. История брака Ираклия и Мартины имеет непосредственное отношение к переломному периоду войны с персами и к последующей судьбе Ираклия Константина, ибо в конечном счете не маленький первенец Ираклия, а именно Мартина побудила императора лично возглавить армянскую экспедиционную армию и в союзе с тюрками нанести поражение войскам Хосрова II. Возможно, после 628 г. Мартина уже не обладала тем влиянием на мужа, которое она оказывала на него в 623 г., чем и объясняются инертность Ираклия после нашествия арабов, его неспособность повторить свои военные достижения периода войны с персами. 4 июля 638 г. произошла коронация Ираклона, старшего из выживших сыновей Ираклия и Мартины, в качестве августа. Его брат Давид был провозглашен цезарем [de cerim., II, 27; 627, 13–628, 20]. Возможно, именно к этому событию был приурочен серийный выпуск знаменитых серебряных миссориев из клада в Каравасе, иллюстрирующих историю царя Давида, которые стали важнейшим изобразительным источником для реконструкции комплекса вооружения византийской армии VII в.
Пауль Шпек объясняет провозглашение Ираклона и Давида августом и цезарем болезнью Ираклия Константина и малолетством Константа II22. На этом основании мы можем сделать вывод, что до болезни первенца император Ираклий не хотел рисковать и делать соправителями своих детей от Мартины, которые могли иметь определенные отклонения в развитии, связанные с близким родством их родителей. С другой стороны, сложно поверить в то, что Мартина, которая уже успела заявить о своих политических амбициях в бурном 623 г., в дальнейшем могла отказаться от борьбы за престол и уступить его пасынку. Попытка Ираклия в 613 г. противопоставить самозванцу Лже-Феодосию и стоявшему за ним Хосрову II своего грудного ребенка Ираклия Константина в качестве коронованного августа четверть века спустя привела к роковому конфликту внутри собственной семьи между выросшим наследником и его мачехой.
Учитывая поздний и тенденциозный характер сведений о Лже-Феодосии в сочинениях Феофилакта и опирающегося на Феофилакта Феофана, мы вполне можем поставить под сомнение убийство Феодосия в Халкидоне. И это обстоятельство побуждает нас задать вопрос о том, насколько возможно отождествление персидского самозванца, коронованного в Ктесифоне, со спасшимся Феодосием. Несмотря на всю заманчивость этой гипотезы, ряд обстоятельств не позволяет нам отождествить Лже-Феодосия и сына императора Маврикия. Проблема заключается в том, что сам факт коронации самозванца несторианским католикосом в Ктесифоне подтверждает, что даже если Феофилакт солгал, и Феодосий не был убит в Халкидоне в ноябре 602 г., самозванец, известный нам из армянских и сирийских источников, не мог быть сыном императора Маврикия. Во-первых, благодаря сведениям современников, испанского пресвитера Иоанна Бикларского и авторов Пасхальной Хроники, мы знаем, что настоящий Феодосий в 587 г. уже был провозглашен своим отцом цезарем [Ioan. Bicl., A. 587]23, а в 590 г. — августом и соправителем отца [Ioan. Bicl., A. 588; Chron. Pasc., A. 590]. Если бы Феодосий действительно прибыл ко двору Хосрова, то он прибыл бы как действующий император и предложение персидского шаха о коронации в сасанидской столице должен был воспринять как оскорбление. Во-вторых, настоящий Феодосий не мог дискредитировать себя какой-либо церемонией, совершенной несторианским католикосом. Он не мог дать Фоке, константинопольскому патриарху и цирковым партиям повод для того, чтобы обвинить себя в отступничестве от православных догматов Эфесского и Халкидонского Соборов и тем самым поставить крест на своем предприятии. Очевидно, что коронованный в Ктесифоне и принимавший участие в персидском походе в Армению человек, который выдавал себя за спасшегося императора Феодосия, был самозванцем, возможно, беглым римлянином, которого Хосров II использовал до определенного момента в целях политической борьбы против Фоки, а затем и Ираклия. Коронация самозванца в Ктесифоне, организованная Хосровом, в действительности должна была привлечь на сторону персов и самозванца сирийское несторианское население восточных провинций Византии, которое, подобно монофизитам, относилось к константинопольскому правительству враждебно и потенциально могло послужить социальной базой для утверждения персидского владычества на римском Востоке.
Возможно, политика Хосрова II в отношении самозванца Лже-Феодосия в 603– 610 гг. столетие спустя послужила примером для арабского военачальника Сулеймана ибн Хишама и омейядского халифа Хишама ибн Абдул-Малика (723–743), которые поддержали выступление самозванца Пергамена, выдававшего себя за спасенного Тиберия, сына императора Юстиниана II Ринотмета (685–705; 705–711). Сведения об этом самозванце, ставшем подражателем Лже-Феодосия, помимо сирийских источников, содержатся в поздней Хронографии Феофана и были заимствованы этим историком либо из «первого досье» Георгия Синкелла, т. е. из документов палестинского происхождения, которые Георгий Синкелл вывез в Константинополь в царствование императрицы Ирины (780–802)24, либо из реконструированной Д. Е. Афиногеновым «Истории Льва и Константина»25.
Авантюра Лже-Феодосия и его покровителя Хосрова II Парвиза, как известно, не принесла никаких реальных плодов ее зачинателям. Лже-Феодосий вскоре после 610 г. сошел с исторической сцены, и в 626 г. римляне смогли защитить Константинополь от объединенного нападения аваров, славян и персов. Император Ираклий при помощи союза с западно-тюркским каганом Тун-Джабгу (618–630) переломил ход войны с персами и в 627 г. нанес персидским войскам решительное поражение, которое спровоцировало в следующем 628 г. переворот в Персии и свержение Хосрова II. Возможно, своеобразной платой Ираклия кагану за оказанную помощь стало согласие императора на беспрецедентный династический брак между каганом и своей старшей дочерью, августой Епифанией. Как сообщает Никифор, опиравшийся на несохранившийся византийский исторический роман, еще в период боевых действий против персов Ираклий показал кагану портрет своей дочери, который тотчас воспылал к ней любовной страстью [Niceph., 1837, 18–19]. Подобный портрет Епифании мог быть выполнен в файюм-ской технике, чем, вероятно, и объясняется его убедительность. Примерно в 630 г. Епи-фания была отправлена в ставку кагана, но не доехала до места назначения, ибо узнала о гибели жениха и вернулась обратно в Константинополь [Niceph., 1837, 25].
Хотя Пауль Шпек отвергал реальность этой романтической истории и утверждал, что Никифор кратко пересказал некий византийский роман, не имевший ничего общего с действительностью, нам представляется, что более обоснована гипотеза Константина Цукермана, который доказывает подлинность сведений Никифора и видит в проекте тюркского брака Епифании исторический прецедент, опираясь на который, около 700 г. потомок Ираклия, император Юстиниан II Ринотмет, заключил брак с хазарской принцессой Феодорой26. Проект брачного союза Епифании с западно-тюркским каганом свидетельствует о политическом значении альянса между Восточной Римской империей и Западным тюркским каганатом на исходе 620-х гг., ибо Епифания, коронованная отцом 4 октября 612 г. в качестве августы, долгое время, до брака Ираклия и Мартины (622–623), как бы замещала свою умершую мать Фабию и вместе со своим младшим братом Ираклием Константином демонстрировала как прочность новой династии, так и тщетность намерений Лже-Феодосия и Хосрова II посягнуть на императорский престол. Не исключено, что спустя более полувека Юстиниан II, скрываясь в хазарских степях от своих врагов, действительно вспомнил о политической стратегии своего предка и положил в основу союза с хазарами династический брак, что, конечно же, не отменяет искренних романтических чувств, существовавших между Юстинианом II и хазарской принцессой27.
Победа Ираклия над персами прославила его во всем мире, доступным представлениям римлян той эпохи. Апофеозом триумфа императора стало возвращение Животворящего Креста из персидского плена в 630 г.28 В 629 г. авторитет и политическое значение Восточной Римской империи были вполне сопоставимы с авторитетом и политическим значением Римской империи времен Юстиниана I (527–565). В предгорьях Карпат об Ираклии слагали легенды славяне дулебы — данники Аварского кагана [ПСРЛ, I, 1846, 5]. На берегу Индийского океана об Ираклии пели эфиопы, которые передали предания о нем племенам черной Африки, говорящим на суахили (Utendi wa Tambuka). В Западной Европе об Ираклии вспомнил франкский хронист XII в. Вильгельм Тирский, который видел в этом императоре первого крестоносца [Guillaume de Tyr, 1986, 105–107], а французский трувер Готье из Арраса в своем рыцарском романе придумал новую сказочную биографию Ираклия. Самозванец Лже-Феодосий был окончательно забыт.
Но реальность оказалась для Ираклия не прекрасной Дульсинеей, а грубой Аль-донсой. Война Восточной Римской империи с персами продолжалась четверть века, и в ходе боевых действий империя потеряла Египет, Сирию и значительную часть Анатолии. Война способствовала ослаблению как Восточной Римской империи, так и прежде всего сасанидского Ирана [Картлис Цховреба, 2008, 108]. Это обстоятельство уже на рубеже 620–630-х гг. стало причиной поражения империи в борьбе с новыми захватчиками — арабами, которые за два десятилетия завоевали сасанидский Иран. Борьба с персами и арабами при Ираклии положила начало процессу длительной социально-экономической и политической трансформации восточно-римского общества, что в следующем VIII столетии привело к полному обновлению аристократии и военной элиты29. Эта трансформация привела к рождению средневековой Византии, которая унаследовала от Восточной Римской империи политический феномен само-званчества. Что же касается Мартины, игравшей при Ираклии роль Афины при Одиссее, ее имя было опорочено на многие века придворной пропагандой узурпатора Константа II, которая ретранслировалась Феофаном и которая возлагала на Мартину вину за поражения Империи от арабов.
Список литературы Самозванец Лже-Феодосий и император Ираклий: к проблеме генезиса византийского самозванчества
- Картлис Цховреба. История Грузии / Под ред. Р. В. Метревели. Тбилиси, 2008.
- Полное собрание русских летописей. Т. 1. СПб., 1846.
- Себеос. История императора Иракла / Пер. К. Патканьяна. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1862.
- Фирдоуси Абулькасим. Шахнаме / Пер. Ц. Б. Бану-Лахти. М.: Изд.-во Академии Наук СССР, 1960. T. 2.
- Chronicon Pascale, hrsg. v. Ludwig Dindorf, CSHB. Bonn, 1832.
- Chronique de Séerte ou Histoire Nestorienne, par Mgr. Addai Scher, PO 17, T. IV. F. 3. Partie I. Turnhout: Brepols, 1907.
- Eusebii Pamphili Vita Constantini, hrsg. v. Friedrich Adolf Heinichen. Leipzig, 1830.
- Festugière André-Jean. Vie de Théodore de Sykéon. Vol. I, II. Bruxelles: Société des Bollandistes, 1970.
- Guillaume de Tyr. Chronique. Par R. B. C. Huygens. CH. C. Cont. Med. 63. Vol. I, II. Turnhout: Brepols, 1986.
- Iohannis abbatis Biclarensis Chronica a. CCCCXLIV-DXC, hrsg. v. Theodor Mommsen, Chronica Minora saec. IV-VII, Vol. II. MGH XI. Berlin, 1894.
- Nicephori patriarchae constantinopolitani breviarium historicum / Hrsg. v. Emmanuel Bekker. Bonn, 1837.
- Noldeke Theodor. Die von Guidi herausgegebene Syrische Chronik. Wien: F. Tempsky, 1893.
- Scriptores Historiae Augustae / Hrsg. v. Ernst Hohl. Leipzig: Teubner, 1965. Vol. I, II.
- Sexti Aurelii Victoris Historia Romana / Hrsg. v. succ. Ottonis Holte. Leipzig, 1892.
- Sophronii Anacreontica 21, PG 87. Paris, 1863. Coll. 3823-3830.
- Theophanis Chronographia / Hrsg. von Karl De Boor. Leipzig, 1883. Vol. I.
- Theophylacti Simocattae historiae / Hrsg. v. Peter Wirth. Stuttgart: Teubner, 1972.
- Zosimi Historia Nova, hrsg. v. Ludwig Mendelssohn. Leipzig: Teubner, 1887.
- Zotenberg Hermann Theodor. Chronique de Jean, Évêque de Nikiou. Texte Éthiopien publié et traduit. Paris, 1883.
- Афиногенов Д.Е. Рассказ об осаде Константинополя в 717-718 гг. в Хронике Феофана Исповедника: следы редакторской работы // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2018. 22-1. С. 60-57.
- Болотов В.В. К истории императора Ираклия // Византийский Временник. 1907. XIV.C 68-124.
- Гумилев Л.Н. Подвиг Бахрама Чубины. Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1962.
- Кулаковский Ю.А История Византии. Т. 3: 602-717 гг. СПб.: Алетейя, 1996.
- Курбатов Г.Л. Восстание Прокопия (365-366гг.) // Византийский Временник T.XIV. 1958. С. 3-26.
- Лебедева Г.Е. Динамика социальной структуры ранневизантийского общества (куриалы, сенаторы по данным кодексов Феодосия и Юстиниана) // Вестник ЛГУ. 1990. 4 (23). С. 21-30.
- Мехамадиев Е.А. Византийская армия в 626-628 годы: Ближневосточная граница и армянские провинции // Ученые записки Казанского университета. 2018. 106, 6. С. 1384-1401.
- Хелимский Е.А Тунгусо-Маньчжурский языковой компонент в Аварском каганате и славянская этимология: материалы к докладу на XIII Международном съезде славистов, Любляна, 15-21 августа 2003 г. Гамбург, 2003. С. 3-12.
- Barnes Thimoty. Christentum und dynastische Politik (300-325) / Usurpationen in der Spätantike, Hrsg. v. François Paschoud und Joachim Szidat. Stuttgart, 1997. S. 99-110.
- Barnes Thimoty. Constantine. Dynasty, Religion and Power in the Later Roman Empire. Oxford: Blackwell Publishing I: td., 2014.
- Barnes Thimoty. Constantine and Eusebius. Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Barnes Thimoty The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge: Harvard University Press, 1982.
- Diehl Charles. Théodora, impératrice de Byzance. Paris: De Boccard, 1904.
- Drapeyron Ludovic. L'empereur Héraclius et l'Empire byzantin au VIIe siècle. Paris: E. Thorin, 1869.
- Garland Lynda. Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium, AD 527-1204. London and New York: Routledge, 1999.
- Golden Peter. Some notes on the Avars and Rouran // The Steppe Lands and the World beyond them. Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday. Iasi, 2013. P. 43-66.
- Greatrex Geoffrey, Lieu Samuel L. C. The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars, P. II, A. D. 363-630. London, New York, 2002.
- Head Constance. Justinian II of Byzantium. Madison, Milwaukee and London: The University of Wisconsin Press, 1972.
- Howard-Johnston James. Armenian Historians of Heraclius. An Examination of the Aims, Sources and Work-Methods of Sebeos and Movses Daskhurantsi / The Reign of Heraclius (610641). Crisis and Confrontation, by Gerrit J. Reinink and Bernard H. Stolte. Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters, 2002. P. 41-62.
- Howard-Johnston James. Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Kaegi Walter E. Heraclius. Emperor of Byzantium. Cambridge, 2003.
- Martindale John Robert. The Prosopography of the Later Roman Empire, Vol. III A, B, A. D. 527-641. Cambridge, 1992.
- Pernice Angelo. L'Imperatore Eraclio. Firenze: Galletti e Cocci, 1905.
- Pohl Walter. Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 567-822 n. Chr. München: Verlag C. H. Beck, 1988.
- Pourshariati Parvaneh. Decline and Fall of the Sassanian Empire. The Sassanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London and New-York: I. B. Tauris, 2008.
- Seek Otto. Geschichte des Untergangs der antiken Welt. B. I. Stuttgart: J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1895.
- Spain A. S. Heraclius, Byzantine Imperial Ideology, and the David Plates // Speculum 52:2 (1977). P. 217-237.
- Speck Paul. Das geteilte Dossier. Beobachtungen zu den Nachrichten über die Regierung des Kaisers Herakleios und die seiner Söhne bei Theophanes und Nikephoros, noixiÀa BuÇavxîva 9. Bonn, 1988.
- Speck Paul. Eine Gedächntisfeier am Grabe des Maurikios. Die Historiai des Theophylaktos Simokates: der Auftrag; der Fertigstellung; der Grundgedanke // Varia IV. Beiträge von Sofia Kotzabassi und Paul Speck. noixiÀa BuÇavxiva 12. Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1993. S. 175-254.
- Speck Paul. Épiphania et Martine sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique, 1997. P. 457-465.
- Speck Paul. Kaiser Leon III., Die Geschichtswerke des Nikephoros und des Theophanes und der Liber Pontificalis, T. I. Die Anfänge der Regierung Kaiser Leons III, ПоькЛа BuÇavxiva 19. Bonn, 2002, T. II. Eine Neue Erkenntnis Kaiser Leon III, T. III. Die ArtooxaCTiç Pw^nç Kai IxaXiaç und Liber Pontificalis, ПожЛа BuÇavxiva 20. Bonn, 2003.
- Touraj Daryaee. Sasanian Persia. The Rise and Fall of an Empire. London and New York: I. B. Tauris, 2009.
- Trombley Frank R. Military Cadres and Battle during the Reign of Heraclius / The Reign of Heraclius (610-641). Crisis and Confrontation, by Gerrit J. Reinink and Bernard H. Stolte. Leuven, Paris, Dudley, MA: Peeters, 2002. P. 241-261.
- Whitby Michael. The Emperor Maurice and his Historian — Theophylact Simocatta on Persian and Balkan Warfare. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Zuckerman Constantine. Heraclius and the return of the Holy Cross // Constructing the Seventh Century, by C. Zuckerman. Paris, 2013. P. 197-218.
- Zuckerman Constantine. La petite Augusta et le Turc. Epiphania-Eudocie sur les monnaies d'Héraclius // Revue Numismatique, 1995. P. 113-126.