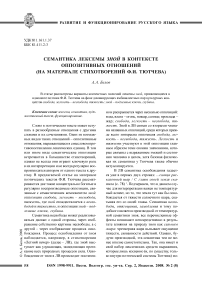Семантика лексемы зной в контексте оппозитивных отношений (на материале стихотворений Ф. И. Тютчева)
Автор: Белов Андрей Александрович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (8), 2008 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены варианты контекстных значений лексемы зной, проявляющиеся в идиолекте поэтики Ф.И. Тютчева на фоне доминирующих амбивалентных пар культурных концептов свобода, легкость - несвобода, тяжесть; зной - подземные ключи, глубина.
Лексема, семантика, художественный текст, функционирование
Короткий адрес: https://sciup.org/14969332
IDR: 14969332 | УДК: 811.161.1.37
Текст краткого сообщения Семантика лексемы зной в контексте оппозитивных отношений (на материале стихотворений Ф. И. Тютчева)
Слово в поэтическом тексте может вступать в разнообразные отношения с другими словами и их сочетаниями. Один из возможных видов таких отношений – оппозитивные отношения, выражающиеся в смысловом противопоставлении лексических единиц. В том или ином виде семантические оппозиции встречаются в большинстве стихотворений, однако не всегда они играют ключевую роль в их интерпретации и не всегда регулярно воспроизводятся автором от одного текста к другому. В предлагаемой статье на материале поэтических текстов Ф.И. Тютчева рассматриваются две такие концептуально богатые и регулярно воспроизводимые оппозиции, связанные с семантическим компонентом зной : оппозиция свобода , легкость – несвобода , тяжесть , где зной отождествляется с несвободой и тяжестью , и оппозиция зной – подземные ключи , глубина.
Семантика несвободы может реализовываться двояко: с одной стороны, через изображение собственно картины несвободы, а с другой – через изображение процесса освобождения. Процесс освобождения от зноя наблюдается, например, в стихотворении «Летний вечер» (далее – ЛВ), где зной выступает как удушающая, замедляющая протекание всех природных процессов сила. Освобождение от зноя в ЛВ происходит постепен- но и раскрывается через несколько оппозиций: вода, влага – огонь, пожар, солнце; прохлада – жар; свобода, легкость – несвобода, тяжесть. Зной в ЛВ связан со вторыми членами названных оппозиций, среди которых прежде всего интересна оппозиция свобода, легкость – несвобода, тяжесть. Легкость и тяжесть участвуют в этой оппозиции главным образом теми своими значениями, которые связаны с выражением эмоций и состояния человека в целом, хотя базовая физическая их семантика у Тютчева также обычно актуализируется.
В ЛВ семантика освобождения задается уже в первых двух строках: ...солнца раскаленный шар / С главы своей земля скатила (с. 78) 1. Подчеркнем, что в данном случае для интерпретации важен не температурный аспект, но то, что земля тут как бы освобождается от тяжести солнечного шара, скатывая его со своей главы. Семантика несвободы, отягощения, замедления и тому подобного является производной от температурной семантики зноя, все перечисленные эффекты возникают непосредственно в результате влияния на природу зноя как сильного жара: чрезмерная жара вызывает ощущение тяжести, скованности действий. Однако, будучи производной, эта семантика тем не менее вполне самостоятельна. Так, она имеет и свой набор лексических средств выражения, которые лишь косвенно (и, по существу, только внутри поэтической системы Тютчева) мо- гут служить для реализации температурной семантики.
Одно из таких средств – причастие тяготеющий – мы находим во второй строфе ЛВ: Уж звезды светлые взошли / И тяготеющий над нами / Небесный свод приподняли / Своими влажными главами (с. 79). Тяготеть над , согласно МАСу, значит «тяжело нависать, возвышаться над окружающим... нависать как угроза, ощущаться как постоянный источник неприятностей» [2, т. 4, с. 436–437]. Тяготеющий над лирическим субъектом стихотворения небесный свод иначе можно охарактеризовать как тяжелый, давящий, гнетущий, нависающий низко над землей. И освобождение от его гнета заключается в том, что звезды его приподнимают своими влажными главами . В данном случае тяжелое небо, безусловно, это один из компонентов общей картины зноя, однако собственно температурная семантика во второй строфе фактически не представлена. Основную роль в создании образа зноя здесь играет именно та семантика, которую мы условно обозначили как семантику несвободы.
Интересно, что глагол тяготеть один раз появляется у Тютчева и в более тесной связке со зноем – в качестве сказуемого к подлежащему зной в стихотворении «Как птичка, с раннею зарей...» (далее – КП): Хоть свежесть утренняя веет / В моих всклокоченных власах, / На мне, я чую, тяготеет / Вчерашний зной, вчерашний прах!.. (с. 125). Это стихотворение, достаточно близкое к ЛВ по времени написания (ЛВ – <1828>, КП – <1835>), во многом перекликается с ним и с содержательной точки зрения. В ЛВ, как было показано, постепенное наступление ночи несет с собой освобождение от зноя, близка функция ночи и в КП. В этом тексте ночь также потенциально способна принести избавление от зноя: О, как лучи его (дня. – А. Б. ) багровы, / Как жгут они мои глаза!.. / О ночь, ночь, где твои покровы, / Твой тихий сумрак и роса!.. (с. 125).
Однако, несмотря на то что потенциально ночь может укрыть лирического субъекта от жгучих дневных лучей, на самом деле в КП этого не происходит (в чем заключается принципиальное отличие от ЛВ). Зной, преодо- ленный в ЛВ, здесь продолжает тяготеть над персонажем стихотворения, что подчеркивается темпоральным определением вчерашний: оно указывает на то, что речь тут идет не о зное нового, младого дня, но именно о том зное, от которого не удалось освободиться за ночь. Глагол тяготеть, таким образом, оказывается одним из ключевых лексических средств выражения семантики несвободы сразу в двух тютчевских текстах.
Результат освобождения от зноя Тютчев изображает в третьей и четвертой строфах ЛВ, которые в этом плане композиционно противостоят первой и второй, где описывается процесс освобождения. Наиболее любопытна для нас третья строфа: семантика зноя в ней сочетается с семантикой дыхания – зной предстает тут как сила, не дающая свободно дышать. И хотя в третьей строфе нет прямой характеристики зноя как удушливого, затрудняющего дыхание и т. д., однако она легко восстанавливается из текста: Река воздушная полней / Течет меж небом и землею, / Грудь дышит легче и вольней, / Освобожденная от зною (с. 79). Отметим, что сема свобода содержится в значениях сразу нескольких лексем, присутствующих в данной строфе (даже если оставить за скобками очевидно содержащее эту сему причастие освобожденный ). Во-первых, семантика свободы выражается тут посредством наречия в форме компаратива полней в сочетании с глаголом: полней течет в строках Река воздушная полней / Течет меж небом и землею синонимично течет свободней , беспрепятственно (что соответствует дефиниции значения наречия полно в МАСе: «4. <...> Проявляющийся вполне, не частично, абсолютно. <...> || Неограниченно, ничем не стесненно» [2, т. 3, с. 265]). Девятый и десятый стихи ЛВ служат смысловым зачином к одиннадцатому и двенадцатому стихам: свободное течение воздушной реки позволяет груди дышать легче и вольней .
Наречие вольно – еще одно яркое средство выражения семантики свободы. В основном своем значении вольно, в сущности, является абсолютным синонимом лексемы свободно (если мы также возьмем его пер- вое значение), МАС определяет вольно как «свободно, беспрепятственно» [там же, т. 1, с. 207]. В ЛВ вольно фактически означает не завися от зноя; будучи неподвластным зною. Это прямо подтверждается последним стихом третьей строфы, в котором Тютчев вводит и саму лексему зной: Грудь дышит легче и вольней, / Освобожденная от зною. Таким образом, о степени «удушливости» зноя в ЛВ мы можем судить от обратного – по тому, как изображается процесс освобождения от него.
Помимо лексики, связанной с выражением семантики свободы, целесообразно обратить внимание и на наречие легче . Его появление в третьей строфе закономерно, оно подготовлено, в частности, образом тяжелого ( тяготеющего над нами ) небесного свода, который мы рассмотрели выше. Тяжесть , давление , гнет ассоциируются у Тютчева со зноем, и потому освобождение от зноя дает возможность дышать именно легче . В этом примере мы видим непосредственное воплощение рассматриваемой нами оппозиции свобода , легкость – несвобода , тяжесть.
Если проследить использование в ЛВ слов, которые номинируют те или иные части тела, то нетрудно обнаружить еще один композиционный прием, организующий стихотворение: 1) ...солнца... шар / С главы своей земля скатила (первая строфа); 2) ...звезды... <... > / Небесный свод приподняли / Своими... главами (вторая строфа); 3) Грудь дышит легче и полней (третья строфа); 4) И сладкий трепет, как струя, / По жилам пробежал природы, / Как бы горячих ног ея / Коснулись ключевые воды (четвертая строфа) (с. 79). Можно сказать, что в ЛВ Тютчев описывает тело природы – с главы до ног , создавая тем самым целостный ее образ. Природа участвует в процессе освобождения от зноя как единый организм.
При последовательном описании природы задается важная вертикаль – по мере развития текста направление взгляда повествователя перемещается сверху вниз (от главы к ногам): от солнца, звезд и небесного свода к воздушной реке, текущей меж небом и землею, и далее, в последнем стихе, уже к под- земным источникам – ключевым водам. Уместно вспомнить здесь слова М.Л. Гаспарова о том, что основное измерение пейзажа у Тютчева – «вертикаль, причем устремленная не снизу вверх, а сверху вниз, от неба к земле» [1, с. 343], в этом отношении пейзаж ЛВ типично тютчевский.
Соотнесение второго обозначенного нами композиционного принципа с первым позволяет выявить еще одну значимую оппозицию, раскрывающую дополнительные смысловые оттенки зноя (под первым принципом, напомним, имеется в виду противопоставление двух частей текста, в первой из которых изображен процесс освобождения от зноя, а во второй результат). Не случайно то, что постепенное, от первой к четвертой строфе, уменьшение силы воздействия зноя на окружающий мир происходит параллельно с перемещением взгляда повествователя от неба к земле и ключевым водам . Это сочетание заслуживает внимания, потому что хотя зной у Тютчева и ассоциирован в первую очередь с небом, но при этом он не вступает в прямые оппозитивные отношения с землей и земным. Более того, иногда он может и ассоциироваться с земным, проти-вопоставляясь при этом небесному, неземному, ср.: И увядание земное / Цветов не тронет неземных, / И от полуденного зноя / Роса не высохнет на них («А.В. Пл<ет-не>вой», с. 256); Как жаждет горних наша грудь, / Как все удушливо-земное / Она хотела б оттолкнуть («Хоть я и свил гнездо в долине...», с. 203). Зной у Тютчева вступает в оппозитивные отношения с подземным , глубью , глубиной . Иными словами, со всем тем, что удалено от земной поверхности вглубь, тем, до чего не могут добраться знойные лучи солнца, и в ЛВ антагонистом зноя с этой точки зрения являются именно ключевые воды . Взгляд повествователя, таким образом, перемещается в ЛВ не просто сверху вниз, но еще и от одного члена данной оппозиции к другому: от раскаленного шара солнца в первом стихе к ключевым водам в последнем.
Один из наиболее ярких примеров использования оппозиции зной – подземные ключи, глубина у Тютчева находим в стихотворении «Безумие» (<1829>). В целом, «Безу- мие» построено на контрасте между внутренним, эмоциональным миром и миром внешним. Картина внешнего мира в «Безумии» – это картина иссушающего зноя: ...с землею обгорелой / Слился, как дым, небесный свод (с. 86) (если в ЛВ небесный свод тяготеет над землей, то тут он уже просто с ней сливается), под раскаленными лучами, в пламенных песках, к растреснутой земле. Ни в одном другом стихотворении Тютчева зной не предстает в такой резкой форме: если говорить о деструктивном температурном влиянии зноя на природу, то в этом аспекте именно «Безумие» можно назвать самым «знойным» тютчевским текстом. Контрастом же к негативной картине удушливого зноя выступает позитивное внутреннее состояние, которое по причине своей оторванности от окружающих реалий и расценивается автором как состояние безумия: несмотря на зной, безумие пребывает в беззаботности веселой, оно Чему-то внемлет жадным слухом / С довольством тайным на челе (с. 86).
Оппозиция зноя и подземных , ключевых вод реализуется в четвертой строфе «Безумия». Изображение подземных вод в этой строфе весьма развернуто и динамично ( струй кипенье , ток подземных вод , шумный из земли исход ), воды будто бы могут выступить как равновеликая зною сила. Однако в контексте «Безумия» противостояние подземных вод и зноя оказывается мнимым, существующим лишь в воображении. Безумье мнит , что слышит струй кипенье, / Что слышит ток подземных вод, / И колыбельное их пенье, / И шумный из земли исход! (с. 86).
Выявленный нами набор оппозиций, компонентом которых является зной, а также знание лексических единиц, маркирующих эти оппозиции, дает возможность постулировать наличие темы зноя даже в таких текстах, где оно, на первый взгляд, неочевидно. Например, в стихотворении «Silentium!» (<1829 – начало 1830-х годов>). Общая тема «Silentium!» такая же, что и в «Безумии», – дисгармония между внешним и внутренним миром, и одно из средств развертывания этой темы – та же оппозиция между зноем и подземными, ключевыми водами. Однако если персонаж «Безумия»
лишь воображает, что слышит ток подземных вод , то обобщенному адресату «Silentium!» ключи доступны. Отличие еще и в том, что в «Silentium!» эти ключи не материальны, их источник – не подземная, а душевная глубина . Выражение душевная глубина в «Silentium!» расположено дистантно по отношению к ключам : Молчи, скрывайся и таи / И чувства и мечты свои – / Пускай в душевной глубине / Встают и заходят оне (с. 105). Но есть у Тютчева и стихотворение, где лексема ключ употреблена в той же строке, что и душевная глубина , – «К Н.» (1824): Как жизни ключ , в душевной глубине / Твой взор живит и будет жить во мне (с. 69). В обоих этих случаях перед нами метафорический перенос подземные (глубокие) ключи → ключи в душевной глубине (физическая глубина трансформируется в глубину души).
Внешний мир, антагонистичный ключам и внутреннему миру в целом, появляется сначала во второй строфе – в образе другого: Другому как понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живешь? (с. 106). В третьей строфе вводится семантика знойного и шумного дня, способного разрушить таинственно-волшебные думы. Лексический маркер зноя тут – дневные лучи, вступающие в активную оппозицию к внутреннему миру души: Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных дум; / Их оглушит наружный шум, / Дневные разгонят лучи (с. 106). Лирический субъект призывает адресата оградить себя от агрессивного влияния внешнего мира, прекратив коммуникацию с ним и довольствуясь жизнью в себе самом. Пример лирического субъекта, не сумевшего в схожей ситуации замолчать, Тютчев дает в КП (близком к «Silentium!» и хронологически). Окружающий мир в КП наделен теми же признаками, что и в «Silentium!», – он шумный и знойный: Как ненавистны для меня / Сей шум, движенье, говор, крики / Младого, пламенного дня!.. / О, как лучи его багровы, / Как жгут они мои глаза!.. (с. 125). Лирический субъект в полной мере принимает на себя все тяготы, однако же не останавливает процесс коммуникации с миром, он продолжается в виде жалоб и пеней (которых другие, новое племя, понять и принять не могут). В результате ему и подобным ему обломкам старых поколений, не сумевшим достичь гармонии с самими собой, остается лишь с изнеможением в кости брести за новым племенем: Как грустно полусонной тенью, / С изнеможением в кости, / Навстречу солнцу и движенью / За новым племенем брести!.. (с. 125).
Рассмотрение семантики лексемы зной в контексте оппозитивных отношений позволяет, таким образом, выявить довольно тонкие, неочевидные на первый взгляд ее смыслы и коннотации, актуализированные в поэтическом идиолекте Тютчева, благодаря помещению слова в новое синтагматическое и парадигматическое окружение.
Список литературы Семантика лексемы зной в контексте оппозитивных отношений (на материале стихотворений Ф. И. Тютчева)
- Гаспаров, М. Л. Композиция пейзажа у Тютчева. Т. 2/М. Л. Гаспаров//Гаспаров, М. Л. Избранные труды/М. Л. Гаспаров. -М., 1997. -С. 332-361.
- Словарь русского языка: в 4 т./под ред. А.П.Евгеньевой. -4-е изд., стер. -М.: Рус. яз.: Полиграфресурсы, 1999.
- Тютчев, Ф. И. Полное собрание стихотворений/Ф. И. Тютчев; сост., подгот. текста и примеч. А. А. Николаева. -Л.: Сов. писатель, 1987.