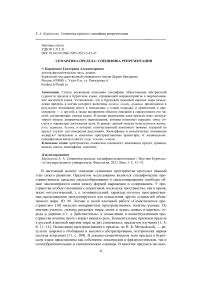Семантика предела: специфика репрезентации
Автор: Бардамова Е.А.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию специфики объективации абстрактной сущности предела в бурятском языке, отражающей мировосприятие и миропонимание носителей языка. Установлено, что в бурятской языковой картине мира осмысление предела, в состав которого включены начало, конец, граница, происходило в результате понимания места и положения, с одной стороны, и ориентации в пространстве - с другой, а также восприятия объекта описания в совокупности его частей, составляющих единое целое. В основе реализации идеи предела язык эксплуатирует модель динамического перемещения, которая позволяет передать точку отсчета и параметры достижения цели. В рамках данной модели используются тупик, угол, вершина, бездна, в которых количественный компонент помимо указаний на предел служит для измерения расстояния. Зооморфные и соматические номинации кодируют начальные и конечные пространственные ориентиры. К национальноспецифичным автор относит узуур ‘кончик, острие ’.
Пространство, семантика, компонент, номинация, предел, граница, начало, конец, зооморфизм, соматизм
Короткий адрес: https://sciup.org/148327268
IDR: 148327268 | УДК: 811.512.31 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-3-41-47
Текст научной статьи Семантика предела: специфика репрезентации
Бардамова Е. А. Семантика предела: специфика репрезентации // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 3. С. 41‒47.
В настоящий момент описание семантики пространства проходит важный этап своего развития. Предметом исследования являются специфические пространственные средства смыслообразования и смысловыражения, наиболее общие закономерности связи между формой выражения и содержанием. У пространства особые отношения с семантикой, поскольку пространство, как и время, носит онтологический, т. е. познавательный, характер, поэтому пространственные представления эксплуатируются для осмысления других сущностей объективного мира. Ю. М. Лотман в своей ключевой работе «Семиотическое пространство» [10] выделил инвариантное пространственное понятие граница. По мнению ученого, граница разделяет миры: своих и чужих, живых и мертвых, города и деревни и т. д. Действительно, в осмыслении и концептуализации пространства понятие предел играет важную роль. Концептульные признаки предела в русской языковой картине мира не раз становились предметом изучения [1; 5; 6; 11; 14]. Осмысление пространственного предела, по Н. Б. Мечковской, — результат широкого обобщения и высокого абстрагирования, исторически первая система координат [11, с. 109]. В лексико-семантическом поле предела в бурятском языке представлены как собственно лексические и фразеологические, так и словообразовательные и синтаксические единицы. В качестве предмета исследо- вания выбраны лексические средства, объективирующие конечные и начальные пространственные точки. Анализ лингвистического материала показал, что концептуализация пространства в аспекте предельности его фрагментов позволяет носителю языка сегментировать пространственную безграничность в четком соответствии с особенностями чувственного восприятия, на котором и основывается их семантизация, ср.: адаг хYYри ‘последнее место’, харгын хYбee ‘край дороги’, газарай заха ‘глухомань, отдаленное место’, мухар харгы ‘конец дороги’, 3YYH хилэ ‘восточная граница’1.
Условное деление пространства на фрагменты служит основой ориентации в пространстве: тγрγγ сэрэг ‘авангард, передовая’ (букв. впереди идущее войско) , хойнохи ‘находящийся позади всех ’, харгын мухар ‘тупик ’, хадын орой ‘вершина горы ’, газарай YЗYYP ‘видимая даль, небосклон ’, тэнгэриин хаяа ‘горизонт ’.
Используя антиномию начала и конца, можно описать объект или явление, не прибегая к конкретизации его отличительных признаков: заха турууенъ шэлэхэ ‘положить начало’, ахазаха болохо ‘становиться лидером’, гун газар ‘глубь земли’, онгосын hγγл ‘корма лодки’ (букв. хвост лодки), заха хизааргγй ‘бескрайний’, туйлдаа хγрэхэ ‘дойти до предела’, мγрэнэй эхин ‘исток реки’, заха γзγγр ‘обрывки ’ и другие .
Установлено, что в концептуальном поле пространственного предела в бурятском языке манифестируют три когнитивных признака: 1) начало, которое отражает представления о наличии некоего состояния, не имеющего места до настоящего момента (пресуппозитивный); 2) конец, обозначающий пространственную или временную завершенность; 3) граница, эксплицирующая линию раздела между пространственными или временными промежутками. В лексикосемантическом поле предела, составленного методом сплошной выборки, находим существительные: эхин, мухар, мγлшэ, орой, сэг, hγγл, туйл, тγгэсхэл, γзγγр, унги, хизаар, хилэ, заха, адаг, сээл, гYн, хYбee, шэгшэг, эсэс; прилагательные: тγрγγ, захын, хизаарай, адагай, хилын, хизаартай, тγрγγшын, hγγлшын, туйлай, эсэсэй, алас, анха, эхинэй; глаголы: hYYлтэхэ, эсэслэхэ, эхилхэ, мухардаха, туйла-ха, тγгэсэхэ, γндэhэжэхэ, хизаарлаха, хилэлхэ, захадань гараха, адаглаха, адаг-таха, hγγл боохо, бγтээхэ, буураха, хγрэхэ, дγγргэхэ, бараха, баруулха, гараха, тYрэхэ, Yнгэрхэ, барантаха, захалха, тYPYYлхэ, гYйдэлдee орохо и др.; послелоги: эхеэр, hγγлдэ, захада, эсэсээр, тγрγγндэ, эхилтэр ; наречия: мγлшөөр, hγγлээр, туйлай, тYPYYн, тYPYYнхи, тYPYYшэг, тYPYYшээр, захаа; фразеологические обороты: дабаан дээрэ ‘момент, непосредственно предшествующий наступлению чего-либо ’ (букв. на горе), саана орохо ‘удаление за пределы чего-либо ’, нохойн дуун ойртоо ‘дело идет к концу’, эхинээнъ hYYл хYрэтэр о>т начала до конца’, hYYл бо-охо ‘завершить’ (букв. конец закрыть), уг таhа ‘вконец’ и другие [3].
Слова с изучаемой семантикой в бурятском языке зачастую употребляются в составе устойчивых выражений, репрезентирующих представление о целом, где под началом и концом понимается единое неделимое пространство, ср: оройНоонъ ула хYрэтэр Взт начала до конца’ (букв. от макушки до подош-вы),YЗYYPhвв YЗYYP хYрэтэр о>т начала до конца’ (букв. от кончика до кончика), эхинhээ адаг хγрэтэр ‘от начала до конца’. Функционирование фразеологических оборотов подобного рода отражает результат когнитивных процессов осмысления носителями языка о целом пространственном объекте как о совокупности двух исходных точек.
В основе воззрений о пределе в бурятском языке лежат несколько логем.
Так, постижение пространственного и временного предела основано на идее динамического перемещения, которая чаще всего объективируется глагольными формами: например: эсэстэнь хγргэхэ ‘довести до конца’, γндэр добые дабажа гараха ‘преодолеть высокую гору’, нютагтаа дγтэлхэ ‘приближаться к родным местам’, тγрэлхидтөө тараха ‘разъехаться по родственникам’. Как видим, в глагольных контекстах идея конца реализуется указанием на достижение заявленной точки динамического перемещения [7]. В рамках названной модели концептуализации предела в бурятском языке используется идея тупика. Под концом в бурятском языке подразумевается периферийное, труднодоступное место в пространстве или дальняя точка на поверхности предмета: абсолютный конец возможен при наличии значительного расстояния от говорящего/наблюдателя до описываемого предела, ср.: далайн захада ‘на краю моря’, дэлхэйн мухарта ‘на краю земли’, гγг гγнзэгы ‘бездна, пучина, заха хизаарта хγрэхэ ‘достичь края’, заха булан ‘захолустье’. Языковое сознание выбирает мухар ‘тупик’ для обозначения конечной точки ввиду подразумеваемого отсутствия возможности дальнейшего передвижения, тупик служит символом окончания или прекращения движения или изменения его направления: туйл ‘предел, конец’, газарай мухар-та ‘в глуши’ (букв. на краю земли), адаг hγбөө яhaн ‘самое последнее ребро’, му-хардашаха ‘окончиться тупиком’, адаглуулха ‘доводить до конца, кончать’. На основе семантической близости тупика и конца сформировался экспрессивный оценочный компонент, эксплицирующий исчерпанность жизненных, личностных и нравственных сил: адагтаха ‘занимать последнее место’, хамагай адаг ‘худший’, хэмтэ газар ‘место погребения’ и др. Подобную семантическую деривацию демонстрирует бγглγγ ‘закрытый, глухой’, ср.: бγглγγ газарта hууха ‘жить в захолустье’, бγглэхэ ‘обманывать, втирать очки’.
Для обозначения пространственного предела бурятский язык эксплуатирует идею угла , например: заха булан ‘захолустье’, Европын булан ‘край Европы’, тохой газарай буланда ‘в глуши’, заха булангай ‘отдаленный, захолустный’, алишье буланhаа ‘со всех концов’ .
Следует отметить, что данная вторичная номинация имеет место и в русском языке: таежный угол, в глухом, деревенском углу, дрянной угол, медвежий угол. Появление дискретного значения ‘находящийся в глуши’ стало возможным благодаря наличию в семантической структуре семантического инварианта ‘место, где сходятся внешние и внутренние стороны предмета’. Схема наращения смысла может выглядеть следующим образом: место, ограниченное двумя сходящимися сторонами, → на границе → близко к краю → на краю местности → в тупике → в глуши. Метафорическое переосмысление угла представляет собой одну из разновидностей метафоры тупика.
В репрезентации начальной и конечной точки в пространстве и на оси времени в бурятском языке используется зооморфные номинации, характерные для категоризации кочевниками воспринимаемых объектов окружающего мира в соответствии с представлениями о размере и строении животного: γбэлэй хγγл ‘ко- нец зимы’, hγγл зγγхэ ‘быть в хвосте’, hγγл даража ерэхэ ‘опоздать’, hγγлдэ ‘потом, в конце’, онгосын hγγл ‘корма лодки’ (букв. конец лодки). Осмысление пространственного и временного предела происходило с использованием границ тела животного, хвост выступил символом некоего конца.
Конец в бурятском языке предстает в виде вершины или бездны: мундар-гын орой ‘вершина гольцов’, сээл нγхэндэ ‘в глубокой яме’, гγн ехэ шэлын γбэр орохо ‘взобраться на самую вершину хребта’, хярын орой ‘гребень горы’ и др. Исходная сема пространственной удаленности конца в языковом сознании связана с нормой и мерой границ объектов. В приведенных примерах фиксируется аномальная протяженность объектов природного мира по вертикали, максимальная величина дистанции служит основой появления нового диффузного значения конечной точки описываемого объекта. При этом количественный компонент размера в языке подвергается оценке и получает способность выступать в качестве основания для измерения расстояния в пространстве: Арбан гурбан hарьда-гые алад гаража талииба hэн ха ‘тринадцать гольцов, бывало, преодолевал’ (Х. Намсараев) .
Для номинация границ применяется можо ‘бедренная кость’, в результате метафорического переосмысления которого возникли частные значения ‘группа’, ‘область’, ‘кучка’, ‘группировка’ , ср : хоёр можо болгоо ‘образовали два района’, Сан хэнгэрэгэй абяан доро тэдэнэр һубарилдан, хори-хорин хүнэй можо болон жагсашабад ‘Под звуки барабана и тарелок они построились, разделившись на две группы по двадцать человек’ (Д. Батожабай) .
Другим мерилом всех пространственных объектов, как известно, выступают части человеческого тела. В соответствии с кодом человеческого тела голова как самая верхняя часть служит для кодирования верхней или передней исходной точки пространственных объектов, а глагольные производные от существительного толгой помимо всего прочего актуализируют ‘направление движения’: хадын толгойдо ‘на вершине горы’, толгойн харгыгаар ‘по дороге через хребет’, онгосын толгой ‘нос лодки’, сэсэгэй толгой ‘цветок’ (букв. голова цветка), со-моо толгойлхо ‘вершить копну сена’, баруун тээшэ толгойлхо ‘направляться на восток’. К национально-специфическим и весьма продуктивным для бурятского языка можно отнести соматизм яhан ‘кость’. К деривационно-смысловым отношениям лексемы относятся указания на принадлежность к одному этносу: бурят яhанай ‘бурят’ ; к какому-либо бурятскому роду: готол яhанайбта? ‘вы из рода готол?’ ; описание соматического состояния: арhа яhан хоер ‘исхудавший, истощенный’, яhынь гарагаха ‘лишить всех сил, крайне утомить ’, яhа гараха ‘выбиться из сил’ ; на возраст: γмхи яhан ‘старые кости’ и даже смерть: яhаа хаяха ‘умирать’ ; на душевное состояние: яhаа ябтайха ‘беспокоиться о ком-либо’, яhынь дайруулха ‘задевать за живое’ ; прочность материала, из которого сделано изделие: яhан хатуу ‘твердый как кость’ и др. Источником полисемии яhан ‘кость’ выступает исходное значение «составная часть опорно-двигательного аппарата человека», инвариантный признак «часть целого» позволяет кодировать многие объекты и явления окружающего мира, рассматриваемые в аспекте части и целого. В таком же плане употребляются и лексема можо ‘группировка, кучка’ , сема предела которой стала возможной в результате действия процесса отделения части от целого.
К национально-специфическим обозначениям начала, исходной позиции начала движения в бурятском языке можно отнести соматизм ара ‘спина, задняя, тыльная часть’ , например: ара хадаhаа зγγн гар тээшээ талииха‘от северной горы на восток отправиться’ (диал.), ара талаhаа орохо ‘приехать с тыльной стороны’, талын араhаа маряажа дγтэлхэ ‘тихонько приблизиться с северной стороны’ и т. д . Появление неспецифических значений у лексемы ара стало возможным в результате особенностей ориентации в пространстве, закрепившейся в бурятской языковой картине мира, согласно которой любой объект принимает неизменную позицию относительно сторон света, а именно: находится лицом к югу, спиной к северу. В соответствии с данной ориентацией ара ‘спина, задняя часть’ всегда служит отправной точкой при перемещении на местности. В обозначении ориентиров начальной точки в пространстве язык использует также магнай ‘лоб’ для обозначения передовой, впереди идущей части объекта: магнай сэрэг ‘передовые части войска’, магнай сэрэгγγдэй магнайда ябаhан гвардейскэ полк ‘наш передовой гвардейский полк’.
Одним из продуктивных признаков, заложивших основания для обозначения предела, является отделение. Отделение одного пространственного сегмента от другого подразумевает наделение номинируемого сегмента определенными границами. В бурятском языке семантика таких единиц, как тээлниг ‘огороженное место для пастьбы телят’, хаамаг ‘загородка’, хашаа ‘загон для скота’, хорёо ‘изгородь’, бγлэг ‘группа, кучка’ , эксплицирует идею границы, инвариантную для глаголов, от которых они образованы, ср.: тээглэхэ ‘запирать на засов, ставить перекладину’, хааха ‘закрывать, загонять, преграждать’, хашаха ‘припирать, загонять’, бγлэглэхэ ‘разделять на части’ . Границы устанавливаются и понимаются носителями языка как средство создания своего пространства, в котором укрепляются состояние и безопасность [9; 13].
Для начальной точки бурятский язык выбирает метафору острия, например в таких выражениях: модоной γзγγр ‘верхушка дерева’, γзγγргγй ‘не имеющий конца’, аралай γзγγр ‘береговая кромка озера’, γзγγр γгы модондо ‘нет начала у дерева’, тайгын хγйтэн булагай γзγγр дээрэнь тγрэhэнби ‘родился у истока холодного таежного родника’ (букв. у начала таежного холодного родника я родился). При этом амбивалентность семантики γзγγр позволяет лексеме с одинаковой частотностью служить для обозначения конечных точек , ср: γзγγраар hууhан ‘живущие по окраине’ (букв. живущие на острие), унагай γзγγр ‘конец стропил юрты’. Синкретизм понятий начала и конца не раз отмечался в лингвистической литературе [2; 8; 12] и, по-видимому, является семантической универсалией, восходящей к истокам осмысления предела как такового и зиждется на обыденном понимании целостности пространства, возможности совпадения начала и конца.
В обозначении начальной точки участвует эхин ‘начало’, исходным значением которого выступает признак основания, актуализирующий идею устойчивого установления, позволяющего вступить в силу чему-либо, ср.: эхи татаха ‘положить начало’, эхин hургули ‘начальная школа’ , эхин газар ‘исходная позиция’, эхин hуури табигша ‘основоположник’.
Для начала характерно указание на положение или состояние, которое предшествует всем другим объектам описания, например: тγрγγ ябаха ‘идти впереди’, γндэhэн hуури‘основа, база’, эхин эмхи ‘первичная организация’, тγрγγ айл ‘предыдущий дом’.
С целью объективации абстрактной сущности начала в языке применяется фитосимвол γндэhэ ‘корень’, представляющий большие возможности для актуализации идей источника роста и основание развития: γндэhэн эшэ ‘основание, база’, эмидхэхы γндэhэн ‘организующее начало’, γндэhэжэхэ ‘вести начало, происходить’, γндэhэн hуури табигша ‘основоположник’.
Анализ лексических единиц описываемого семантического поля предела в бурятском языке показал синкретизм, существовавший на начальной стадии развития данных понятий и нашедший отражение и в современном использовании лексем. При этом семантика конца гораздо более продуктивна, чем у репрезентантов начала. Для обозначения конца продуктивно применяются идеи результата , тупика , вершины или бездны , предела с использованием соматизмов и зооморфизмов, актуализирующих значительную удаленность от субъекта описания . Понятие начала в пространстве связано с тем, что находится впереди, поэтому во вторичной номинации задействованы идеи вершины , края , корня в рамках растительной метафоры, основания или установления, в глагольных реализациях — начальная стадия передвижения.
Метафора результата напрямую связана с названным выше переосмыслением. Конец предполагает завершение описываемой чаще всего динамической ситуации, в результате которого и достигается искомая цель. В таком значении выступают в основном глаголы, большинство из которых обозначает результативное целенаправленное действие: эсэстэ хγрэтэр ‘до конца’, туйлаха ‘достигать, добиваться, преодолевать’, где туйл — конец, предел, тγгэсэхэ ‘заканчиваться, завершаться’, захадань гараха ‘приблизиться к завершению’, адаглаха ‘доходить до конца’, hγγл боохо ‘завершить’ (букв. хвост завязать), хγрэхэ ‘достичь’, дγγргэхэ ‘закончить’, бγтээхэ ‘выполнить’ и др. Под концом подразумевается такое положение, которое было запланировано и явилось естественным итогом какой-либо деятельности.
Список литературы Семантика предела: специфика репрезентации
- Арутюнова Н. Д. О новом, первом и последнем // Логический анализ языка: язык и время. Москва: Индрик, 1991. С. 48‒57. Текст: непосредственный.
- Арутюнова Н. Д. В целом о целом. Время и пространство в концептуализации действительности // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. Москва: Ин-дрик, 2002. С. 3‒18. Текст: непосредственный.
- Бардамова Е. А. Репрезентация пространственных представлений в бурятском языке. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2021. 176 с. Текст: непосредственный.
- Гак В. Г. Семантическое поле конца // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. Москва: Индрик, 2002. С. 50‒60. Текст: непосредственный.
- Гуревич В. В. О «субъективном» компоненте языковой семантики // Вопросы языкознания. 1998. № 1. С. 27‒35. Текст: непосредственный.
- Дамбуева П. П. Страдательные причастия на -аатай, -ээтэй в современном бурятском языке // Вестник Бурятского госуниверситета. Филология. 2022. Вып. 2. С. 33‒40. Текст: непосредственный.
- Ермакова О. П. Существует ли в русском языке энантиосемия как регулярное явление. Вспоминая общую этимологию начала и конца. Логический анализ языка. Семантика начала и конца. Москва: Индрик, 2002. С. 61‒68. Текст: непосредственный.
- Инютина Л. А. Данные региональных исторических словарей для реконструкции сибирской пространственной картины мира XVII в. // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 3. С. 98‒102. Текст: непосредственный.
- Лотман Ю. М. Семиосфера // Внутри мыслящих миров. Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2000. 704 с. Текст: непосредственный.
- Мечковская Н. Б. Концепты «начало» и «конец»: тождество, антонимия, ассимет-ричность // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. Москва: Индрик, 2002. С. 107‒120. Текст: непосредственный.
- Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура. Москва: Академия, 2004. 432 с. Текст: непосредственный.
- Топорова Т. В. Семантическая структура дранегерманской модели мира. Москва: Радикс, 1994. 191 с. Текст: непосредственный.
- Шмелев А.Д. Из пункта А в пункт Б // Логический анализ языка. Семантика начала и конца. Москва: Индрик, 2002. С. 181‒191. Текст: непосредственный.