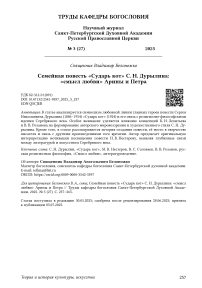Семейная повесть «Сударь кот» С. Н. Дурылина: «смысл любви» Арины и Петра
Автор: Священник Владимир Белоножко
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теория и история культуры, искусства
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется символизм любовной линии главных героев повести Сергея Николаевича Дурылина (1886–1954) «Сударь кот» (1924) и его связь с религиознофилософскими идеями Серебряного века. Особое внимание уделяется влиянию концепций К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова на формирование авторского мировоззрения и художественного стиля С. Н. Дурылина. Кроме того, в статье рассматривается история создания повести, её место в творчестве писателя и связь с другими произведениями того времени. Автор предлагает оригинальную интерпретацию мотивации посвящения повести Н. В. Нестерову, выявляя глубинные связи между литературой и искусством Серебряного века.
С. Н. Дурылин, «Сударь кот», М. В. Нестеров, В. С. Соловьев, В. В. Розанов, русская религиозная философия, «Смысл любви», литературоведение
Короткий адрес: https://sciup.org/140312240
IDR: 140312240 | УДК: 82-312.2:1(091) | DOI: 10.47132/2541-9587_2025_3_257
Текст научной статьи Семейная повесть «Сударь кот» С. Н. Дурылина: «смысл любви» Арины и Петра
Литературное наследие Сергея Николаевича Дурылина (1886–1954), в последние десятилетия обратившее на себя внимание не только исследователей, но и широкого круга обычных читателей, нуждается в оценке не только со стороны филологии, но и со стороны философии и богословия, поскольку главная тема творчества писателя — религиозная. Таким образом, именно сквозь призму мировоззренческих установок философа мы можем наиболее адекватно понять и оценить его художественный метод. Как и любой человек, Дурылин — дитя своего времени, и потому его жизненный путь, религиозно- философские поиски необходимо рассматривать в контексте духовной атмосферы, многообразных культурных тенденций и явлений эпохи Серебряного века.
Повесть «Сударь кот» была написана С. Н. Дурылиным в Челябинской ссылке, куда он был отправлен в начале 1923 г. под гласный надзор ГПУ, после ареста по обвинению в антисоветской деятельности. С этой ссылки начинаются близкие отношения Дурылина с Ириной Комиссаровой, которая отправляется за своим духовным отцом, по благословению старца Алексея Мечева. К 1924 г. «Сударь кот», вероятно, был завершен, однако А. Б. Галкин замечает, что к тексту повести Дурылин возвращался и позднее1.
По всей вероятности, посвящение произведения именно М. В. Нестерову неслучайно. По слову Сергея Николаевича, Нестеров — автор «повести о русской женщине, уходящей от земного счастья»2, имея в виду его прекрасные «Великий постриг» (1898, Русский музей), «Думы» (1900, Русский музей). «Сударь кот» посвящен той же теме, близкой Нестерову, теме, им продуманной и выстраданной, отчего последний и был глубоко впечатлен повестью.
В «Сударе коте» прообразом главной героини, по словам писателя, послужили его мама, бабушка и прабабушка3 (в заметках, имеющихся в музее, к ним прибавляется еще образ Ирины Алексеевны Комисаровой, «её имя дал я и Ирише моей»4). Произведение глубоко личное, — его наполняют образы самых близких людей, неотвратимо утрачиваемые, уходящие в прошлое. Повесть озаглавлена теплым домашним словом — «семейная».
Сергей Николаевич строит свой художественный мир из самого себя , своего прошлого, сплетая фрагменты воспоминаний о любимых людях, дорогих местах в особый тихий мотив. Другое сравнение, способное выявить поэтический метод автора, ключ к которому дает он сам — это вышивка пелены для иконы из разноцветных лоскутов шелковой материи. Мальчик Сережа из повести имел игрушечную лавку с дорогой материей.
Здесь характерные черты быта отцовского дома, его уклад, география, имена, слова, чувства и запахи — все изготовлено из имеющейся материи, которая уже разворачивалась, например, в «Родном углу». В купеческом доме явно узнается Плетешковский переулок, сад (однозначно тот самый, в котором рос сам Сергей Николаевич), даже забор вкруг сада так же ощетинился гвоздями от воров. Дурылин ходит вкруг своего детства, как в калейдоскопе рассматривает воспоминания, заворожённо переносит их в жизнь своих героев, дает им так насладиться детством, как не может сам, помещая их туда, откуда его невозвратно унесло потоком времени.
Мы предпринимаем попытку проинтерпретировать центральный сюжет повести — историю любви Ариши и Петра, как вариант практической реализации «Смысла любви» В. С. Соловьева5 («важнейшего программного текста» для русского раннего символизма6), через развитие и углубление этой темы.
-
В. С. Соловьев в этом труде проводит мысль о том, что главной характеристикой падшего мира является всеобщая и принципиальная отделенность, раздробленность («корень ложного существования»7), соответствующая закону непроницаемости во времени и пространстве8. Преодоление этого духовно- физического диссонанса Соловьев находит в любви половой или супружеской: «чтобы жить в другом, как в себе», «находить в другом положительное и безусловное восполнение своего существа»9.
По мнению Соловьева, чистая плотская10 (или естественная, в смысле, принадлежащая природным силам души, в противоположность сверхъестественной, божественной) любовь не отрицается своим источником — любовью Божественной, но, вливаясь в него, образует совершенную форму. Соловьев сопоставляет дар слова и способность к любви в том отношении, что эти силы души изначально принадлежат человеку, созданному по образу и подобию. Однако, без их осознанного совершенствования немыслимо достижение цели обладания ими11.
Любовь — не только неопределимое рационально чувство, но и прозрение, сила, которую необходимо направлять и реализовывать при помощи усилий воли. Гиппиус писала: «Соловьев настаивает, что “дело” любви — не мечтание, не фантастика. Оно такое же реальное и волевое, как дело общественное…»12
-
С. Н. Дурылин на этом не останавливается, но углубляет мысль, включая в нее элементы христианской аскетической традиции. Внешне любовь может являть вид ей несвой ственный — жестокости, даже вражды. Яркий пример — житие прп. Симеона Столпника, к которому отсылает вдумчивого читателя Дурылин.
Во-первых, символична хронология. День прп. Симеона празднуется на следующий день после праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи (28 августа), с истории которого начинается повествование «Сударя кота». День памяти святого совпадает с первым днем индикта — «венцом лета», церковным новолетием, празднование которого установлено на I Вселенском
Соборе, в знак радости о свободе Церкви, освобожденной от тирании безбожной земной власти13. То, что Дурылин сознательно обращает читателя к этому символу, и помогает найти к нему дорогу. Об этом говорит и дословное цитирование канона утрени службы Индикта на страницах повести14. Арина освобождается от мира и того, что в мире (Ср.: 1 Ин 2:15–16), семьи, возлюбленного, всякого житейского попечения. Героиня теперь отрезана от прошлой жизни, к ней приложимы слова, которыми С. Н. Булгаков описывал отношения Вл. Соловьева с Софией: «Он не мог сделаться отцом или мужем, ибо чувствовал себя как бы обрученным»15.
Во-вторых, отметим как образ восхождение героини в затвор на антресоли (верхний полуэтаж) отцовского дома. Прп. Симеон Столпник также внешне отказал в любви самому родному и любимому человеку — своей матери, горькими слезами просившей о краткой встрече с ним. Тяжести ожидания этой встречи со своим дитем сердце матери не выдержало. Свт. Димитрий Ростовский просто и проникновенно пишет о конце её жизни: «Она легла перед дверью ограды (за которой жил сын. — свящ. В. Б. ) и здесь предала дух свой Господу»16. Как ни пытался отец Арины возвратить ее к обычной жизни, ни уговоры, ни ласка не достигли цели.
Так же подвиг детей в обоих случаях оказался спасительным для их родителей. Мать прп. Симеона была причислена к лику святых на основании слов сына, который дал обещание, что после смерти они будут вместе. Старик-купец постепенно становился все ближе к Церкви и в конце концов каждое утро отправлялся к ранней обедне, что говорит о его благочестии, строгой и твердой вере, «дорожке верной в Царство Небесное»17, по выражению матери Иринеи (имя Арины в монашестве). Важная черта, которая обращает внимание на близость к святости Прокопия Ивановича — его христианская мирная и непостыдная кончина. Поэтические слова, которыми в 1908 г. С. Н. Дурылин описал смерть своей няни, приложимы и к кончине этого героя:
— К незримому здесь зримая ступень, Начальный труд и подвиг восхожденья, Не в ночь и в тьму, а в новый вечный день18.
Вообще тема смерти — самого таинственного и страшного процесса перехода в иной мир, сильно интересовала Дурылина, в особенности после потери матери, когда он начал собирать материалы для книги «Как умирают», сохранившиеся в Доме-музее в Болшево. Это большая папка с воспоминаниями о последних часах и минутах жизни разных людей. Проект, к сожалению, остался нереализованным19.
Усилие любви, о котором писал Вл. Соловьев, на наш взгляд, преломилось в повести в следующем виде. Напряжение воли было направлено на преодоление того чувства, которое Соловьев, а вслед за ним А. Блок и А. Белый воспевали в своем творчестве. Мистическо- поэтическую эротику символистов, раскрывающую две темы — красоту природы и силу любви20, Дурылин направляет на путь православной аскетики.
Свт. Игнатий (Брянчанинов), выразитель традиционного святоотеческого учения, пишет, что в грехопадении были повреждены все природные душевные силы, в том числе и естественная любовь. Потому, заключает святитель, необходимо эту любовь умертвить и приложить все усилия к созиданию любви сверхъестественной, «любви во Христе»21. Человек по этой логике должен полностью измениться, «облечься в нового человека» (Еф 4:24), и только Бог может научить истинной, святой любви, освободив свое творение от власти «крови». Прп. Иоанн Лествичник категорично замечает: обольщают себя те, кто считает, что можно иметь одновременно любовь естественную и сверхъестественную22.
Вопрос, мучивший Дурылина в годы сознательного возвращения к вере, после отрезвления от юношеских увлечений, стоял ребром — могут ли на одной полке стоять прп. Макарий Великий и Пушкин? Незадолго до принятия сана (ок. 1919 г.) он ответил — нет23. С. И. Фудель, ученик и друг Дурылина, которого старший товарищ посвящал в тайны своей души, в воспоминаниях раскрывает это «нет». «Нет» — жизни, теперь наступает житие; «нет» — литературному таланту, ведь у писателя «должны быть все страсти в сборе». По мнению Фуделя, этот максимализм, наверняка усвоенный в Оптиной, тугим узлом стал душить подвижную, восприимчивую душу богоискателя. Духовный путь о. Сергия сопровождался «плачем во сне», подсознательным стремлением к жизни от жития, литературе с её страстями. Итог известен — Дурылин оставляет священство, не возвращается к открытому священническому служению24.
Героиня повести — душа Сергея Николаевича — стоит перед тяжелым выбором: остаться в миру и раскрыть ему свои обширные таланты, ответить взаимно сладким поцелуям возлюбленного, подарить и раскрыть в полноте свою чистую красоту, зажить полной жизнью, задышать полной грудью, или отдать жизнь Богу? Арина вслед за Дурылиным идет на подвиг, превышающий силы — отдать жизнь Богу. Героиня плачет, но в огненной печи её отчаяния является Ангел, утешающий и укрепляющий. Художественный мир двоится, разнясь с реальным. Судьба Дурылина была иной. Он пишет по другому поводу, но глубоко характерно: «Боль моя не в том, что не верю в Него, но в том, что не вижу Его, когда видеть было бы спасением. <…> И не вижу, как видеть»25. В реальности Арина оставляет монастырь, не выдержав испытаний игумении, выходит замуж и продолжает дело отца. Однако, подчеркнем, чтобы быть правильно понятыми, мы не считаем повесть сублимацией Дурылиным травматического опыта отхода от исповедания веры. Более того, считаем, что повесть — полноценное философское высказывание.
Дурылин ведет своих героев не к идиллической любовной встрече на лоне ликующей природы. Песнь Песней, по его убеждению, разделяемому и К. Н. Леонтьевым, не может в полный голос быть пропета на проклятой земле: «Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на земле обещают нам Христос и Его апостолы»26. С одной стороны, Дурыли-ну симпатичен образ милующего Спасителя, пришедшего на брак и благословившего веселиться новым вином, и мира, благословляющего своего Творца и ликующего перед Его Лицом (интерес к личности и учению св. Франциска, прп. Серафима Саровского), но, с другой стороны, он подчеркивает, что мир глубоко поражен грехом и неотвратимо катится к концу (Леонтьев, поздний Соловьев, поздний Розанов), что ярко будет выражено в концепции времени романа- хроники «Колокола»27, которая через несколько лет ляжет в стол рядом с рукописью исследуемой нами повести.
С. Н. Дурылин говорит о том, что мир может быть преображен, освящен силой любви, но не согласно некоему всеобщему космическому плану — замыслу Творца, не влекомый неодолимой силой, а исключительно усилием свободной воли конкретных творений. Иначе говоря, мир в полноте восстановлен быть не может, он не стремится к совершенству, но, напротив, к саморазрушению. Лишь островок- крепость (монастырь, Китеж), кропотливо возделываемый божьими людьми, в своем ограниченном пространстве являет подлинную реальность. «Церковь этого мира не обещает»28, однако тьма этого мира не может объять её тихий свет (Ин 1:5), в котором является подлинное бытие, живущее чаянием наступления невечернего дня нового Царства29.
Если предположить, что Дурылин намекает на перенос в пространство пакибытия радость взаимной любви Арины и Петра, то здесь очевидно влияние рассуждений В. В. Розанова из «Апокалипсиса нашего времени» по поводу трансформации гусеницы в бабочку: «уж если где цветы, — то за гробом»30. «Жизнь с избытком» (Ин 10:10) представляется Розанову в образах мира цветущего, рождающего, вещественного. Возможно, кот Васька, который в повести является символом перехода в иной мир, живой связью между Петром и Иринеей — это отсылка к «розановскому», относящаяся к Египту (мумии, созданные по образу кокона и т. д.31).
Итак, С. Н. Дурылин развивает мысль Вл. Соловьева об усилии любви, но далее следует за Леонтьевым, по линии традиционной христианской аске-тики, где подлинное усилие любви к человеку трансформируется в любовь высшего порядка — чувство, обращенное к Богу. В этой любви находится выход из кризиса любви земной, которая, действуя в мире, обреченном на гибель и постепенно умирающем, не может достигнуть своего подлинного измерения. Вся красота этого мира, в том числе прелесть чистой плотской любви, реализуемой в браке (Соловьев), в конечном итоге увядает (Леонтьев), при условии, что она не соединена с иным измерением, в котором нет времени, этой колесницы смерти. Христианство не знает полумер, оно максима-листично — мать прп. Симеона умирает от тоски, но встречается с ним в пакибытии. Героиня повести отказывается от любви родителей и своего друга, от молодости и таланта, чтобы встретиться с любимыми в мире совершенном. С. Н. Дурылин проповедует красоту монашества, восхищается подвигом молодости, вдохновленной примерами древних мучеников.