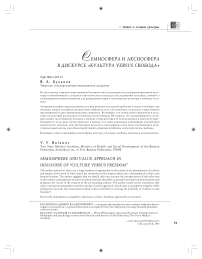Семиосфера и аксиосфера в дискурсе «культура versus свобода»
Автор: Буланов Владимир Владимирович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 1 (57), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье автор, отмечая существование большого числа подходов к исследованию феномена культуры и невозможность создания синтетического подхода к исследованию культуры, говорит о необходимости найти основания для разрешения спора о соотношении культуры и свободы человека. Автор высказывает предположение, что при решении последней проблемы следует учитывать два подхода, между которыми должна быть общность или, как минимум, не должно существовать противоречий в двух принципиальных моментах. Во-первых, это осмысление отражения в культуре последствий реализации человеком своей свободы. Во-вторых, это закономерности, которые влияют на отношение человека к свободе и перспективам её использования в контексте окружающей его культуры. Автор приходит к выводу, что лишь концепция семиосферы и концепции ценностного подхода, констатирующие цельность аксиосферы и при этом учитывающие экзистенциальный метод, способны содействовать решению проблемы «культура versus свобода».
Семиосфера, аксиосфера, дискурс, культура, свобода, подходы к исследованию
Короткий адрес: https://sciup.org/14489678
IDR: 14489678 | УДК: 008:1-027.21
Текст научной статьи Семиосфера и аксиосфера в дискурсе «культура versus свобода»
БУЛАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества Тверской государственной медицинской академии
BULANOV VLADIMIR VLADIMIROVICH — Ph.D. (Philosophy), Associate Professor of Department of
Philosophy and psychology courses with bioethics and history of the Fatherland, Tver State Medical
Academy
Много столетий дискурс «Культура versus свобода» занимает умы мыслителей. В наши дни он является более разнообразным, чем при своём формировании. Тому есть две основные причины, и в совокупности они демонстрируют актуальность синтеза концепции «семиосферы» итех концепций, которые признают существование «аксиосферы».
Первая из этих причин заключается в том, что с самого начала осмысления феномена культуры все более усложнялось его восприятие, возникали всё новые и новые подходы к его исследованию. При этом ряд подходов к его изучению претерпел существенную эволюцию. С конца XX столетия появилось немало учёных, стремящихся к созданию универсального подхода, синтезирующего все самое ценное, что есть в уже существующих подходах к исследованию культуры, но подобные попытки все равно приводят к недооценке ряда подходов, например семиотического и ценностного [14, с. 8—10]. Ряд исследователей пытается представить один подход основным, а остальные подходы — дополняющими данный подход, в частности, сторонник деятельностного подхода В. М. Межуев [7, с. 308—309]. Ю. М. Лотман относится к числу мыслителей, стремящихся выдвинуть собственный, принципиально новый подход к её изучению. По аналогии с «биосферой» Г. В. Вернадского, он семиотическое пространство назвал «семиосферой» и соотнёс его со всем значимым и изменчивым в культуре [5, с. 176—178]. В свою очередь И.И. Докучаев утверждает первостепенную значимость ценностного подхода к изучению культуры: ведь, согласно учёному, лишь ценность интегрирует культуру и является обязательным элементом любого артефакта, на основе ценностных моделей, составляющих структуру, уникальную для каждой культуры [3, с. 76, 79]. По аналогии с «семиосфе-рой» назовём это ценностное пространство, во многом совпадающее со сферой культуры, «аксиосферой». Современным творцом нового подхода к изучению культуры является А. А. Пелипенко, автор смыслогенетической концепции культуры: в ней культура впервые предстаёт как автономный от людей субъект, способный к саморефлексии и собственному целеполаганию [9, с. 501]. Но до сих пор полемика вокруг подходов к исследованию культуры далека от завершения.
Второй причиной можно считать длящийся с конца эпохи Просвещения спор о соотношении культуры и свободы человека. Сначала представлению Цицерона о том, что рост культуры содействует освобождению человеческой сущности от власти животного начала [15, с. 61], было противопоставлено утверждение Ж.-Ж. Руссо, по которому культура, наоборот, порабощает и уродует все лучшее в человеке [11, с. 75—76, 98, 103, 119]. Затем решение этой проблемы осложнилось, так как восприятие свободы перестало быть однозначным, причём в двух аспектах. С одной стороны, Ф. Ницше открыл, что существуют два вида свободы: есть «свобода от чего-то» и есть «свобода для чего-то» [8, с. 54]. «Свобода от чего-то» (например, от принуждения, от зависимости) обычно идеализируется, но стремление к подобной свободе присуще не только людям, но и всем другим живым существам, и не её использование предполагает качественные изменения личности человека и окружающей его культуры. А вот «свобода для чего-то» (для следования своим идеалам, для творчества) свойственна только человеку, именно она делает его субъектом культуры и принципиально отличает его от всех иных живых существ. Вместе с тем, как заметил Ж.-П. Сартр, эта, притягательная на первый взгляд, свобода имеет свою оборотную — и некомфортную — сторону — ответственность, избегая которой люди теряют право считаться полноценными личностями [12, с. 440].
Сочетание данных причин, думается, позволяет понять, что не бывает свободы, однозначно и одинаково воспринимаемой и реализуемой всеми людьми как субъектами культуры. А потому любая попытка выделения универсального (или хотя бы основ- ного) подхода к исследованию культуры будет лишь очередным вкладом в продолжение длительной и бесплодной полемики: в зависимости от отношения к свободе человека будет выбираться и наиболее предпочтительный подход к исследованию культуры как сферы проявления данной свободы. Подобная неоднозначность отношения людей к свободе предполагает и невозможность создания такого синтетического подхода к исследованию культуры, который в должной степени учитывал бы все существующие подходы. Методом исключения можно определить тот путь, по которому остаётся следовать учёному, стремящемуся в максимальной степени сохранять беспристрастность оценок этих подходов. Им является одновременный учёт и двух подходов, между которыми должна быть общность или, как минимум, не должно существовать противоречий в двух принципиальных моментах. Во-первых, это осмысление отражения в культуре последствий реализации человеком своей свободы. Во-вторых, это закономерности, которые влияют на отношение человека к свободе и перспективам её использования в контексте окружающей его культуры.
Последствия реализации человеком свободы запечатлеваются в культуре в виде различных артефактов — материальных носителей культуры. Можно выделить две точки интерпретации данного процесса — с позиции И. И. Докучаева (ценностный подход) и Ю. М. Лотмана (концепция семиосферы). По И. И. Докучаеву, сохранение культурного наследия происходит лишь посредством ценностей: культура оказывается аксиологически организованным текстом, язык которого составляют ценностные модели, благодаря которым каждый смысл соотнесён с определённой ценностью [3, с. 39]. В связи с этим современный теоретик ценностного подхода Г. П. Выжлецов отмечает, что именно ценности определяют человеческий смысл существования людей [1, с. 55—56]. По Лотману, культура сохраняется лишь благодаря использованию людьми знаков, составляющих естественные и искусственные языки, так как для человеческого мышления существует только то, что выражено через язык как упорядоченная совокупность знаков [5, с. 207]. Недаром Э. Кассирер, другой исследователь семиотики культуры, открыл, что любой знак через значение соотнесён с определённым смыслом и что именно эти связи объединяют пространство культуры [4, с. 25, 41—43].
Изложенные выше точки зрения сторонников семиотического и ценностного подходов друг другу не противоречат, если допустить, что ни знаки, ни ценности не имеют исключительной роли в соотнесении знаков с вещами, в результате чего и возникают разнообразные артефакты — материальные носители культуры. О возможности синтеза данных точек зрения свидетельствует и вывод Ф. Ницше, по которому лишь в ходе осмысления создаются ценности, и только посредством их человек формулирует своё отношение к бытию [8, с. 51, 100]. Таким образом, получается, что культура — это текст, созданный на языке из знаков, соотнесённых с ценностями через смыслы и значения. Это соотношение является двусторонним, то есть взаимосвязанным: ценность всегда основана на оценке смысла, а смысл, как отметил А. А. Пелипенко, вместе со значением (знаковой, семантической компонентой) содержит и «ценностную окрашенность» [9, с. 502].
Но подобная «ценностная окрашенность» не означает, что каждый смысл соотнесён с определённой ценностью: в ходе осмысления явления человек формулирует для себя его субъективную значимость, относимую им к одной из трёх возможных категорий: положительной, нейтральной и отрицательной. Так как ценным для человека, по замечанию Б. Л. Губмана, является лишь то, что воспринимается в качестве коммуникативно значимого эталона [2, с. 922], ценностью может быть лишь позитивное — воспринимаемое многими людьми как важное (значит, не нейтральное) и не вызывающее массового отторжения (не отрицательное). К тому же любой человек, являющийся, как отметил Ж.-П. Сартр, существом, стремящимся проектировать самого себя и своё будущее [12, с. 438—439], вряд ли будет избирать в качестве эталона для подобного проектирования (то есть ценности) то, что не воспринимается им как нечто положительное. Каждый смысл «ценностно окрашен» лишь потому, что после осмысления всегда происходит оценка, в ходе которой человек определяет для себя, достоин ли данный смысл того, чтобы быть соотнесённым с ценностью или нет. Так что далеко не все смыслы составляют с ценностями ценностно-смысловые взаимосвязи, но все ценности в этих взаимосвязях пребывают. Этот факт важно отметить, потому что не любое осмысленное проявление свободы человека может иметь ценностное значение для культуры.
Что же касается закономерностей, влияющих на отношение человека к свободе (это неизбежно отражается и на его отношении к культуре), то они также учитываются как автором концепции семиосферы (но не всего семиотического подхода к изучению культуры), так и некоторыми сторонниками ценностного подхода.
Ю. М. Лотман, автор концепции семиосфе-ры, полагает, что хотя мышление человека во многом и детерминировано семиотическими структурами, присущими семиосфере его культуре, оно всегда сохраняет способность к творчеству — свободному выбору одной из альтернатив, производящему «взрыв» в се-миосфере, и, как, следствие, дающему стимул для преобразования всей культуры [5, с. 28]. Данный вывод не совместим с другой современной концепцией культуры, которую можно также причислить к современному семиотическому подходу, — концепцией смыслогенетической культурологии, созданной А.А. Пелипенко. Ведь, согласно и Ю. М. Лотману, и А. А. Пелипенко, именно смысловое пространство совпадает с пространством культуры, и именно соотношение совокупностей смыслов составляет взаимо- связь пластов культуры [5, с. 25, 35, 266—267; 9, с. 502]. А. А. Пелипенко, как и Ю. М. Лотман, считает смыслогенез сущностью творчества и, как следствие, эволюции культуры, и даже констатирует наличие в культуре специальных смыслопорождающих структур [5, с. 36; 9, с. 502—503]. Казалось бы, такая общность видения морфологии и динамики культуры должна вести и к одинаковому видению роли человеческой свободы в культуре. Но, в отличие от Ю.М. Лотмана, А.А. Пелипенко провозглашает общность для человека и других живых существ закономерностей смыс-логенеза, которые не предполагают существенной роли свободного выбора человека в эволюции культуры: смыслогенез, присущий человеку, лишь эволюционно более совершенен [9, с. 502—503].
Не одинаково относятся к роли человеческой свободы в эволюции культуры и теоретики ценностного подхода. В связи с этим их можно разделить на три группы, ни одна из которых, как представляется, в полной мере не совместима с тем видением значения человеческой свободы для культуры, которое отстаивает Ю. М. Лотман.
Одни мыслители, к примеру Г. Риккерт, считают, что аксиосфера раздроблена, а сущность человека изначально предопределена, и уже потому человек как субъект культуры не свободен. С их точки зрения сознанию человека присущ конфликт между ценностями жизни и ценностями культуры: человек с эпохи Древней Греции раз и навсегда принял сторону ценностей культуры и потому лишился свободы выбора в своём отношении к жизни — и, соответственно, к её антиподу — к культуре [10, с. 410—411].
Другие, в частности П.А. Сорокин и Н. О. Лосский, признают относительную цельность аксиосферы, но тоже констатируют неспособность отдельного человека к значимым для культуры проявлениям свободы. Сорокин утверждает, что доминирующая ценность предопределяет основное смысловое содержание и характер взаимосвязи, иерархии и эволюции всех сфер культуры, на которые один человек повлиять не в состоянии [13, с. 429]. При этом учёный не лишает человека — как субъекта культуры свободы выбора: с доминирующей культурой всегда сосуществуют субкультуры и даже контркультуры [13, с. 433—434]. О том же, но уже с религиозных позиций, пишет Н. О. Лосский, согласно которому все проявления культуры ценностны, но вся совокупность всех человеческих — субъективных — ценностей лишь в самых общих чертах скрепляется объективными ценностями, источником которых является Бог [6, с. 259, 286].
Для представителей третьей группы, втом числе для И. И. Докучаева, цельность аксио-сферы несомненна. Но с их точки зрения эволюция системы ценностей, предопределяющей морфологию культуры, зависит от присущего всем людям поиска ответа на вопрос о смысле жизни, обретение которого должно снять мучающее каждого человека экзистенциальное противоречие. Но обретённый одним человеком ответ на данный вопрос не является обязательным для носителей культуры, и даже не может быть воспринят в качестве идеального и окончательного. Именно это обстоятельство и указывает на значимость роли человеческой свободы в эволюции культуры. Ведь, по И. И. Докучаеву, изменчивость человеческой экзистенции проявляется в его поисках смысла жизни и соответствующих его ходу изменениях в предпочтениях, отдаваемых ценностным моделям [3, с. 79—80], что влияет и на окружающую его культуру. Таким образом, специфика ценностного подхода, характерного для И. И. Докучаева, состоит в использовании экзистенциального метода при исследовании деятельности субъектов культуры.
Думается, что в контексте определения соотношения культуры и свободы оправданно следование позициям двух последних групп сторонников ценностного подхода, то есть российской традиции восприятия аксиосфе-ры как цельного феномена [16, с. 190—191]. Конфликта между ценностями жизни и куль- туры, провозглашаемого Г. Риккертом и другими европейскими теоретиками ценностного подхода, не существует, так как ценности могут возникать и существовать лишь в культуре. У жизни, как биологического процесса, ценностей нет и быть не может, ей можно приписать ценность, но это опять же можно сделать лишь в пространстве культуры и посредством людей как субъектов культуры.
Что же касается выбора между двумя последними позициями, то более предпочтительной представляется точка зрения И. И. Докучаева. Ведь на самом деле, человек в ходе своей деятельности постоянно совершает выбор, то есть пользуется своей свободой, но этот выбор далеко не всегда связан с его поисками ответа на вопрос о смысле жизни и потому не обязательно имеет ценностное значение для него лично. При этом только данная позиция согласуется с ранее сделанным выводом о том, что не все смыслы соотнесены с ценностями и потому не каждое проявление свободы человека влияет на окружающую его культуру.
Таким образом, лишь концепция семи-осферы и концепции ценностного подхода, констатирующие цельность аксиосферы и при этом учитывающие экзистенциальный метод (позиция И.И. Докучаева), способны содействовать решению проблемы «культура versus свобода». Тем более что они совместимы. Недаром Б. Л. Губман отмечает, что совокупность объектов, воспринимаемых субъектами культуры в ходе экзистенциального выбора в качестве ценностей, относится к единому семантическому полю [2, с. 922— 923]. Мало того, они неразрывно едины, потому что данная совокупность (аксиосфера) взаимосвязана с этим семантическим полем (то есть семиосферой) ценностно-смысловыми взаимосвязями, осуществляемыми субъектами культуры в ходе использования ими своей свободы, совершения ими экзистенциального выбора. Думается, что роль взаимосвязи семиосферы и аксиосферы в дискурсе «культура versus свобода» можно считать основополагающей.
L
Список литературы Семиосфера и аксиосфера в дискурсе «культура versus свобода»
- Выжлецов Г. П. Аксиология культуры. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 1996. 152 с.
- Губман Б. Л. Ценности//Культурология. Энциклопедия: в 2 т./главный редактор С. Я. Левит. Москва: РОССПЭН, 2007. Т. 2. С. 922-923.
- Докучаев И. И. Ценность и экзистенция. Основоположения исторической аксиологии культуры. Санкт-Петербург: Наука, 2009. 595 с.
- Кассирер Э. Философия символических форм: в 3 т. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга, 2002. Т. 1. 272 с.
- Лотман Ю. М. Культура и взрыв. Москва: Гнозис; Прогресс, 1992. 272 с.
- Лосский Н. О. Ценность и бытие//Лосский Н. О. Бог и мировое зло. Москва: Республика, 1994. С. 250-314.
- Межуев В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры. Москва: Прогресс-Традиция, 2006. 408 с.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра//Ницше Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм: сборник. Минск: Попурри, 2001. С. 3-297.
- Пелипенко А. А. Смыслогенетическая культурология//Культурология. Энциклопедия: в 2 т./главный редактор С. Я. Левит. Москва: РОССПЭН, 2007. Т. 2. С. 501-504.
- Риккерт Г. Философия жизни//Риккерт Г. Философия жизни. Киев: Ника-Центр, 1998. С. 267-443.
- Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении неравенства//Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Трактаты. Москва: ТЕРРА -Книжный клуб; КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 51-150.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм -это гуманизм//Сартр Ж.-П. Тошнота: Избранные произведения. Москва: Республика, 1994. С. 435-469.
- Сорокин П. А. Кризис нашего времени//Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 1992. С. 427-504.
- Теория культуры: разнообразие подходов и возможностей их интеграции/под ред. Ю. М. Резника. Москва: Научно-политическая книга, 2012. 479 с.
- Цицерон М. Т. Об обязанностях//Цицерон М. Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях. Москва: Наука, 1993. С. 58-156.
- Шибаева М. М. Культура в «зеркале» русской мысли: монография. Москва: МГУКИ, 2001. 249 с.