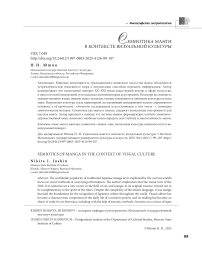Семиотика манги в контексте визуальной культуры
Автор: Юшин Н.И.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (126), 2025 года.
Бесплатный доступ
Мировая популярность традиционного японского искусства манги объясняется устремлённостью нынешнего мира к визуальным способам передачи информации. Автор подчеркивает, что визуальный поворот ХХ–ХХI веков задал новый вектор в сфере искусства, и манга по своей изначальной сути оказалась комплементарна духу времени. Несмотря на сложность художественного языка, именно манга заложила основы узнаваемости японской культуры во всём мире. Визуальная культура стала характерной составляющей повседневной жизни современного человека, а её прочтение – объектом исследования искусствоведов, в том числе – с помощью семиотических методов. Семиотика как наука о знаках, содержит уникальные инструменты для анализа манги. Автор приходит к выводу, что система знаков, формирующих особый символико-художественный язык, позволяет наиболее полно передать всю глубину и многослойность манги.
Манга, мангака, семиотика, символ, знак, визуальная культура, японское искусство, визуальный поворот
Короткий адрес: https://sciup.org/144163533
IDR: 144163533 | УДК: 7.049 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-4126-99-107
Текст научной статьи Семиотика манги в контексте визуальной культуры
Манга – удивительный феномен современной глобальной культуры с бесконечным жанровым разнообразием, включающим в себя как наследие традиционного японского искусства, так и заимствования западного. На сегодняшний день манга обрела популярность во многих странах, и не в последнюю очередь благодаря уникальным стилистическим особенностям изображения посредством знаков и символов. Символизм в манге служит визуализирующим её идею специфическим кодом, посылаемым читателю мангакой (человеком, создающим мангу) и позволяющим с максимальной точностью донести замысел произведения, обеспечивая тем самым более глубокое его понимание. Исследуя особенности символико-графической системы манги, В. Ю. Леонов справедливо отмечает, что трактовка символов не всегда однозначна, поскольку их значение может быть разным в зависимости от сочетаний и других обстоятельств [5, с. 115]. Тем не менее система знаков, используемых в манге и формирующих особый символико-художественный язык, позволяет наиболее полно передать всю глубину и многослойность выстраиваемой автором композиции.
Эффект восприятия, производимый мангой, вписывается в концепцию «визуального поворота», возникшую на базе введенного американским философом, основателем направления «философия будущего» Ричардом Рорти понятия «лингвистического поворота». Основная идея лингвистического поворота заключается в понимании языка как инструмента не только описывающего, но и формирующего реальность, что, согласно Р. Рорти, повлияло на развитие философии ХХ века. В дальнейшем понятие «поворота»
как значения, характеризующего процессы, проистекающие в современном гуманитарном знании, оказалось необычайно востребованным [1, c. 14]. Следом за «лингвистическим поворотом» Р. Рорти появились «риторический», «пространственный», «антропологический», «иконический», «постмодернистский» и множество других «поворотов», что, по мнению В. В. Савчука, объясняется увеличением скорости изменений в общественной жизни, ведущему к сокращению времени от одного поворота к другому [10, с. 108].
С позиции настоящего исследования нас интересует поворот визуальный, где в качестве объекта исследования выступает зрительное восприятие. Но воспринимать рассматриваемый концепт исключительно как явление современное было бы несправедливо – наличие визуального восприятия отмечали и мыслители древности, и философы нового времени. Платон считал зрение важнейшим чувством, которое является для человека не столько процессом физическим, сколько познавательным, предназначенным для миросозерцания и постижения истины. Иммануил Кант называл визуальное восприятие инструментом познания мира, а визуальное воображение считал одной из основных способностей человеческой души, лежащей в основе всякого познания. Джон Локк рассматривал визуальное восприятие как совокупность субъективных и отличных у разных людей чувственных данных, получаемых ими от окружающего мира. Начавшиеся в XIX веке изменения в способах изображения – вкупе с передовыми научными открытиями – отворили дорогу созданию новых образов, а визуальный поворот ХХ столетия, по мнению Л. Н. Воеводиной, был обусловлен
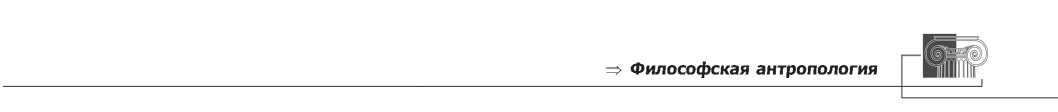
множеством факторов, и, в первую очередь, – доминированием визуальности, насыщением культурного пространства повседневности различными образами, которые стали создаваться и транслироваться в немыслимых прежде масштабах [2, с. 100].
Становление современной манги как пространства выражения идей автора с помощью изображений объясняется устремленностью нынешнего мира к зрительным способам передачи информации. Визуальный поворот ХХ–ХХI веков детерминировал новые реалии в сфере искусства, и манга по своей изначальной сути оказалась комплементарна духу времени. Визуальная культура стала характерной составляющей повседневной жизни современного человека, а её прочтение – объектом исследования искусствоведов, в том числе с помощью семиотических методов. Семиотика, как наука о знаках и знаковых системах, содержит уникальные инструменты для анализа манги. Знак – это основная единица семиотики, которая состоит из означающего (форма знака) и означаемого (значение знака). Касательно манги, это может быть видимый образ, текстовый элемент или комбинация этих двух составляющих.
Помимо знака, компонентами манги также являются код, детонация и коннотация. Код представляет собой совокупность правил, по которым комбинируются и интерпретируются знаки. Детонация означает буквальное толкование знака, а коннотация – его дополнительные смыслы и ассоциации. Манга содержит большое количество прямых и косвенных значений, а семиотический подход к её исследованию позволяет глубже понять, как создаются и в дальнейшем транслируются заложенные автором идеи. Например, анализ визуальных знаков, включающий изучение символов, иконок и индексов, помогает раскрыть передаваемые художником действия, эмоции и характеры персонажей. Текстовые знаки позволяют понять алгоритм взаимодействия вербальных и визуальных элементов, используемых для создания сюжетных линий. Специфические культурные коды, включён- ные в мангу, зачастую могут быть понятны только в контексте японской культуры, а их распознавание помогает интерпретировать концепцию всего замысла.
Визуальный язык – основной инструмент манги, включающий в себя рисунки, линии движения, выражения лиц и композиции кадров, отличается высокой экспрессивностью и способностью передавать сложные эмоции и действия. Вербальный язык, состоящий из текстов диалогов, монологов и звуковых эффектов, служит дополнением к визуальным элементам. Ономатопеи (слова, являющиеся звукоподражанием) и звуковые эффекты играют важную роль в создании атмосферы и динамики манги. Эти компоненты, собранные воедино, создают многослойное повествование.
В манге используются разнообразные техники, например, флэшбэки и флэшфорвар-ды, которые позволяют исследовать прошлое и будущее персонажей, углубляя тем самым сюжет, или интернализация, передающая внутренние монологи и субъективные взгляды героев, таким образом помогая читателю понять их мысли и чувства. Манга также имеет свои структуру и грамматику, которые определяют, как будет рассказана история. Так, кадры и панели, в частности, расположение и размер панелей на странице и их последовательность, создают ритм и темп повествования. Переходы между кадрами и их различные типы, например, моментальные, временные или эмоциональные, используются для создания плавности или напряжения в рассказе. Композиция страниц, включая распределение фокальных точек и визуальных потоков, влияет на восприятие и интерпретацию сюжета.
Для обозначения дополнительных смыслов и эмоций в манге активно применяются иконография и символика. К таковым, в частности, относятся звуковые эффекты, которые могут быть изображены как текстом, так и графикой, и визуальные метафоры. Например, капли пота означают волнение, пламя вместо зрачков – гнев, спираль над головой –
L
обдумывание и т. п. Благодаря семиотике, перечисленные элементы считываются и воспринимаются легко и понятно. Семиотический подход к манге позволяет увидеть связь текста и изображения: диалоги и монологи выполняют основную функцию – трансляцию мысли, определенные сочетания символов помогают создать атмосферу и динамику событий, визуальные усиливающие элементы передают чувства и ощущения.
Размышляя о семиотике манги, А. И. Денисова выделяет следующий набор символов, с помощью которых авторы обозначают характер персонажей и их настроение: глаза, рот, нос, цвет волос, одежда, окружение, типаж, микродвижения и др. Например, черные как вороново крыло волосы говорят читателю о том, что герой воплощает собой ценности бусидо. Если при этом персонаж мужчина, то он бесстрашен, суров и немногословен, способен стойко переносить удары судьбы. Персонаж женского пола с таким цветом волос означает скромность и жертвенность. Розовые волосы говорят о чистоте и невинности, рыжие – о хитрости и взрывном темпераменте, коричневые – о мягкости, сдержанности и замкнутости, голубые – о высоком уровне интеллекта и глубоком уме, зеленые – о наивности и простодушии. Главная особенность, отличающая мангу от их западных аналогов, – развитый символическо-графический язык, позволяющий несколькими штрихами передать довольно сложные эмоции или выразить характер героя [3, с. 4]. Посредством манги могут транслироваться любые идеи, а преданный почитатель жанра всегда сможет понять то, что хотел сказать автор, ориентируясь на символы и знаки.
Первым мангакой, внесшим неоценимый вклад в возрождение, эволюцию и популяризацию манги в ХХ веке, считается японский аниматор, доктор философии Тэдзука Осаму, которого часто называют «богом манги». За свою жизнь О. Тэдзука создал более пятисот манг, за что был удостоен множества премий и наград, а его стиль рисования оказал огромное влияние как на мангак того времени, так и следующих поколений. Свой творческий путь О. Тэдзука начинал с манги для детей, но в дальнейшем переключился на актуальные духу времени темы. Так, в манге авторства О. Тэдзуки отражаются разнообразные научные, исторические и религиозные сюжеты, поднимаются социальные проблемы общества, затрагиваются немаловажные для послевоенной Японии вопросы гуманности и ценности жизни. Кроме того, в сравнении с мангой довоенной работы О. Тэдзуки отличаются разнообразием символов, линий, цвета и форм, что послужило предпосылкой для создания по мотивам его манги полнометражного анимационного фильма в 1960 году. С 1997 года талантливым авторам манги вручается ежегодная премия имени Осаму Тэдзуки в четырех номинациях: за лучший рассказ, премия «Креатив», специальная награда за вклад в развитие культуры манги и Гран-при за лучшую мангу года.
На визуальной составляющей манги, используемых в ней символах, знаках и типах линий, акцентирует внимание Нацумэ Фусаносукэ – выдающийся исследователь-японист и один из первых, кто подошел к изучению манги с позиции семиотики. Нацумэ стал пионером семиотического направления исследования манги наряду с Е ̈ мота Инухи-ко – известным японским ученым, филологом, семиотиком, литературоведом и кинокритиком и Оцука Эйдзи – японским писателем-фольклористом, специалистом в области зарождения послевоенной методологии манги и её дальнейшего развития.
Нацумэ принадлежит авторство так называемой грамматики манги – «манга бумпо», овладение навыками которой в большинстве случаев происходит интуитивно в процессе прочтения или перерисовывания манги. Будучи приверженцем и исследователем творчества О. Тэдзуки, Нацумэ изобрел методику, поясняющую, как различные комбинируемые между собой знаки формируют новые значения, смыслы и сюжеты. Тремя главными компонентами манги он считает изображение, кадр и слово, но при этом неотъемлемыми яв-
ляются только два из них – изображение, отвечающее за внутреннее содержание, и кадр, передающий форму. Неопытному читателю расшифровать все присутствующие в манге символы достаточно сложно, но понять общий замысел повествования он сможет.
Отправной точкой исследований для На-цумэ стало применение такой формы языкового выражения, как звукоподражание, связанное, по его словам, с желанием «увидеть ландшафт манги, как на горе сверху». Уникальность звукоподражания заключается в способности передавать не просто звук, но и его эмоциональный окрас. Каждое звукоподражание в манге обладает своим собственным выраженным оттенком эмоций, будь то радость, грусть, удивление, гнев или страх, а использование этой техники оживляет повествование и создает в воображении читателя уникальные образы героев. В дополнение к звукоподражанию Нацумэ использует и лингвистический подход, что делает прочтение манги более интересным, одновременно напоминая аудитории о неотъемлемой роли японской культуры и языкового познания в создании, чтении и толковании манги. Хотя Нацумэ не является лингвистом, он одним из первых начал объяснять важную роль японских «гионго» – слов, имитирующих звуки, «гисейго» – слов, имитирующих издаваемые живыми существами звуки и голоса, и «гитайго» – слов, имитирующих состояния и эмоции. Эти используемые в манге категории помогают ярче выразить чувства, передать атмосферу происходящего и сделать описание более живым.
В японском языке существует более тысячи различных звукоподражаний, что примерно в три раза больше, чем в русском. Далеко не все из них применяются в манге, однако очень часто реплики героев остаются непереведёнными из-за колоссальных затрат на это усилий и времени, неуместности иностранных слов в контексте истории, отсутствия в языке, на который переводится манга, большей части звуков, которые есть в японском и т. п.
Японские слова и звуки делятся на три семейства и пять классов. Семейства группируют слова по звукам, которым они подражают, а классы – по морфемной структуре, то есть тому, как слова выглядят с точки зрения словообразования. Справедливости ради следует отметить, что такие классы и семейства есть практически в любом языке, включая русский, поэтому явление «гитайго» не уникально для японского – оно существует и в других языках. Например, аналогом английских «grin», «gaze», «wink» в русском языке служат слова «ухмылка», «взгляд», «подмигивание». Усиление эффекта, который производят слова, возникает из-за литературного консонанса, повторения согласных или гласных звуков, акцентирующих внимание на слове.
«Гитайго» являются неотъемлемой частью японского художественного языка, и эти слова нужно научиться видеть, а не пытаться прочесть досконально точно. Японский язык богат на ономатопоэтические слова, поэтому перед переводчиком часто возникает проблема передачи нужного звука. Существуют звукоподражательные слова, имеющие эквиваленты в любом языке мира. Однако в японском языке существует много специфических слов, которым сложно подобрать эквивалент в русском [4, с. 235]. В японской речи «гитай-го» широко распространены и используются в повседневном общении, поэтому неудивительно, что они встречаются и в манге. Именно «гитайго» позволяют автору максимально точно передать душевное состояние героя, мимика которого в разные моменты делает его непохожим на самого себя, но при этом он легко идентифицируется по другим внешним атрибутам, например, по прическе, одежде или шрамам. Если же выражение лица персонажа сильно не меняется, то его эмоции и настроение выглядят однообразно, что не способствует раскрытию авторского замысла.
Помимо звукоподражания, Нацумэ уделяет особое внимание линиям, являющимся основой изображений в манге. Именно структура и характер линий, с помощью которых отображаются эмоции героев, отличают про- изведения различных авторов манги друг от друга. Одни мангаки используют технику плавных линий, другие – резких, третьи сочетают разные типы написания. Линии могут различаться по ширине, направлению, динамичности, четкости и другим параметрам, которые являются визитной карточкой опытного мангака. Например, по сравнению с нединамичными, разнообразные трехмерные линии более точно передают информацию, а вот неточные, неровные линии в больших количествах сложнее подлежат измерению и завершению.
Нацумэ обращается и к принадлежностям для рисования, используемым мангакой. В классическом исполнении манга создается с помощью туши и пера, при этом различные формы перьев формируют разные типы линий. Так, с помощью пера-«ложки» рисуются тонкие линии для спокойных прохладных изображений, пера-«редиски» – плавные ровные линии для мягких и теплых рисунков, пера-Джи – жирные линии для живых выразительных образов, круглого пера – линии разной толщины в зависимости от силы нажима. К базовым инструментам рисования манги относятся также фломастеры различных оттенков, линеры – инструменты для обведения контуров и создания штриховки и рапидографы, обеспечивающие одинаковую толщину линий, необходимых для создания архитектурных элементов в манге. Однако Нацумэ, являясь приверженцем классического стиля, считает, что рапидограф выдаёт слишком вычурные линии, линер не передаёт палитру эмоций и производит сухое впечатление, а фломастер и вовсе делает мангу плоской и бесчувственной.
Следует отметить, что новейшие технологии открыли мангакам небывалые горизонты за счет использования новых видов инструментов для творчества – графических планшетов, интерактивных дисплеев и программ для рисования с широким спектром спецэффектов. Отдельным звеном в создании современной манги стоит искусственный интеллект, однако, в силу специфических особенностей жанра, он пока ещё не в состоянии учитывать тонкие нюансы, сложные речевые модели и другие проблемы, возникающие не только в процессе творчества, но и при переводе с японского на другие языки. Ряд ученых-исследователей выдвигают тезис о том, что пока работа искусственного интеллекта заключается в компиляции уже существующих изображений по принципу вычисления среднего визуального образа на основе сотен и тысяч уже изображенных и опубликованных в открытом доступе изображений. Работа художника не исчезнет, но изменится и преобразится, станет ориентироваться на авторское видение [9, с. 351]. Стоит признать, что на сегодняшний день искусственный интеллект, хотя и не способен в полном объеме создать высокохудожественную мангу, но может стать вспомогательным инструментом для художников в части идей персонажей или выполнения несложной, но трудоёмкой работы, например, заполнения узора цветом. Ключевая проблема для нейросетей в настоящий момент заключается как раз в много-слойности манги, её стилевых особенностях и семантике.
Но вернемся к графико-символическому языку манги в части многозначности используемых линий, когда нарисованный элемент не всегда является тем, чем кажется на первый взгляд, в результате чего могут возникать дополнительные смыслы [7, с. 351]. Нацумэ считает, что читатель интуитивно считывает эмоции персонажа через характер линий. Например, негодование, раздражение, гнев передаются через резкие и угловатые линии; беспокойство, напряжение, волнение – через изогнутые; дружелюбие, благосклонность, добродушие – через округлые. Линии движения показывают направление и динамику перемещения, линии скорости – экстраординарную быстроту, линии действия появляются позади или впереди движущегося объекта или человека параллельно направлению его движения, чтобы создать впечатление того, как он передвигается – быстро или медленно. И, наконец, смиры, или быстрые рисунки, наносятся маз- ками и транслируют не сам момент действия, а то, как это действие было совершено.
Мазки – важный приём в манге, используемый для создания иллюзии быстроты движения и добавления больше энергии и динамизма в сцены. Они помогают проиллюстрировать стремительные манёвры, которые были бы слишком быстрыми для восприятия в реальной жизни. В манге мазки создаются путём растяжения и искажения формы персонажа или объекта. Иногда мангака рисует несколько конечностей или черт, чтобы создать эффект размытости и подчеркнуть скорость и интенсивность движения персонажа. Эти преувеличенные формы видны только в течение нескольких кадров, но именно они создают видимость добавления множества дополнительных эпизодов. Кроме того, при использовании мазков покадровая анимация с плавными реалистичными движениями выглядит визуально более привлекательной. Кадры размытия используются не только для изображения быстрого перемещения в пространстве, но и сцен погони, сражений, а также для смены эмоций, чтобы, например, показать изменение выражения лица персонажа от счастливого к недовольному.
В контексте вышеизложенного уместным будет рассмотреть и сравнить три знаковые манги последних лет – «Сэйлор Мун», «Нару-то» и «Акира» – посредством анализа ключевых структурных и семиотических аспектов.
Манга «Акира», созданная Катсухиро Отомо и изданная в 1982 году, является ярким примером научной фантастики и киберпанка и имеет сложный, многослойный сюжет. Действия происходят в постапокалиптическом Токио, и описываются столкновения подростковых банд, политические интриги и сверхъестественное. В манге присутствует непрозрачный намёк на критику социального устройства Японии. Отомо отдаёт предпочтение детализированной и динамичной графике, чтобы ярче отразить состояние хаоса и беспорядка. В манге много внимания уделяется архитектуре и технологичности, усиливается идея мрачного будущего, где человек и техно- логии выходят из-под контроля. С помощью определённой компоновки страниц и панелей, а именно чёткой выверенности, множественности, обилия перспективы внутри фреймов, усиливается эффект кинематографичности.
С точки зрения символизма и иконографии, «Акира» укоренена в темах разрушения и возрождения и отражает страхи и надежды общества на пороге ядерной эпохи. Символы власти, контроля и революции присутствуют на протяжении всей манги, подчёркивая контекст социального и политического, критикуя милитаризм и правительственное вмешательство.
«Наруто» – манга Масаси Кисимото, впервые опубликованная в 1999 году, является одной из самых популярных серий в жанре сёнэн. Действие разворачивается в мире ниндзя, где юный Наруто Узумаки стремится стать Хокаге – лидером своей деревни. Основная сила манги заключается в её детализированном мире, разнообразных персонажах и глубоких темах дружбы, упорства и борьбы с внутренними демонами. Визуальный стиль Кисимото отличается динамичными боевыми сценами и выразительными эмоциями персонажей, что делает каждую главу насыщенной и захватывающей. Компоновка страниц и панелей способствует плавному повествованию, что позволяет читателям легко следить за развитием сюжета и персонажей.
С точки зрения символизма и культурных аспектов, «Наруто» использует множество элементов японской мифологии и традиций ниндзя, что придаёт истории уникальный колорит. Символика демона-лиса, заключённого внутри Наруто, отражает его внутренние конфликты и стремление к принятию себя. Манга также исследует социальные темы предубеждения и поиск признания, что делает её глубоко резонирующей с читателями разных возрастов. В отличие от «Акиры», которая сфокусирована на мрачных и философских аспектах будущего, «Наруто» предлагает более оптимистичный взгляд на преодоление трудностей и важность личных связей.
«Сейлор Мун» (оригинальное название «Bishoujo Senshi Sailor Moon») – манга Наоко
Такэути, впервые опубликованная в 1991 году, стала одной из самых влиятельных и популярных серий в жанре сёдзё. История повествует о школьнице Усаги Цукино, которая превращается в воительницу в матроске Сейлор Мун, чтобы сражаться со злом и защищать Землю. Ключевая особенность этой манги – способность сочетать элементы магии, романтики и дружбы, создавая эмоционально насыщенные и увлекательные приключения. Визуальный стиль Такэути отличается изящными рисунками, акцентом на модные костюмы и романтические сцены, что придаёт серии уникальную визуальную привлекательность. Компоновка страниц и панелей способствует динамичному развитию сюжета, поддерживая интерес читателей к драматическим и боевым эпизодам.
С точки зрения культурного влияния и символизма, в «Сейлор Мун» используются мифологические и астрономические мотивы для придания истории глубины и значимости. Символика планет и звезд, а также образы магических воительниц подчёркивают темы возрождения, любви и женской силы. Манга также исследует подростковые проблемы, вопросы самоопределения и силу дружбы, что делает её актуальной для широкой аудитории. В отличие от «Акиры» и «Наруто», «Сейлор Мун» предлагает более фантастическое и романтическое повествование, ориентированное на девушек и молодую аудиторию. «Сейлор Мун» укрепила позицию сёдзё-манги на мировом рынке и оставила яркий след в поп-культуре, вдохновив множество авторов на создание нового.
«Акира», «Наруто» и «Сейлор Мун» представляют собой три знаковых манги, каждая из которых имеет свой уникальный стиль и культурное влияние, отражающее разные аспекты японской поп-культуры. «Акира» и «Наруто» больше ориентированы на мужскую аудиторию и содержат довольно мрачные и динамичные сюжеты, тогда как «Сейлор Мун» привлекает своей лёгкостью и романтикой, но глобально они своей тематикой могут затронуть каждого, заставить думать о важном. Таким образом, каждая упомянутая манга представляет собой уникальный аспект японской культуры и искусства, демонстрируя разнообразие тем, стилей и подходов, которые сделали их культовыми в мировом масштабе.
Манга является многоуровневым изобразительно-текстовым произведением, содержащим различные символы, знаки и атрибуты, прочтение которых требует определённых навыков, в связи с чем читателю нередко требуется обращаться к дополнительным источникам информации [8, с. 286]. Несмотря на сложность художественного языка, именно манга заложила основы узнаваемости японской культуры во всем мире. В ближайшем будущем учёным предстоит переосмыслить и пересмотреть теорию визуальной культуры, её методологические подходы и понятийный аппарат [11, с. 87], в том числе – с учётом укоренившегося в современном социокультурном пространстве феномена визуального поворота, рассмотренного на примере традиционного японского искусства – манги.