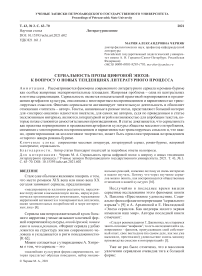Сериальность прозы цифровой эпохи: к вопросу о новых тенденциях литературного процесса
Автор: Черняк М.А.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются феномены современного литературного сериала и романа-буриме как особые жанровые экспериментальные площадки. Жанровая проблема - одна из центральных в поэтике сериализации. Сериальность является показательной практикой нормирования и продвижения артефактов культуры, она связана с многократным воспроизведением и вариативностью транслируемых смыслов. Феномен сериальности активизирует читательскую деятельность и обновляет отношения «читатель - автор». Тексты, написанные в разные эпохи, представляют больший интерес для «экспресс-анализа» идиостиля писателя, для самих же авторов, судя по приведенным в статье эксклюзивным интервью, являются литературной игрой и возможностью для апробации текстов, которые позже становятся самостоятельными произведениями. В статье доказывается, что сериальность как практика нормирования и продвижения артефактов культуры общества массового потребления, связанная с многократным воспроизведением и вариативностью транслируемых смыслов и, что важно, ориентированная на коллективное творчество, может быть проиллюстрирована возрождением «старого» жанра романа-буриме.
Современная массовая литература, литературный сериал, роман-буриме, жанровый эксперимент, сериальность
Короткий адрес: https://sciup.org/147227343
IDR: 147227343 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.602
Текст научной статьи Сериальность прозы цифровой эпохи: к вопросу о новых тенденциях литературного процесса
Стало уже обычным явлением говорить о том, что место романов ХIХ века или кино века ХХ сегодня занимают сериалы, предлагающие
«массированную иллюзию реальности, вкрадчивое погружение в вымышленную жизнь, мерную ритмически организованную композицию, чередование нарративной активности и темпераментных всплесков, океан занимательных подробностей и море интересных лиц» [4].
Сериалы как непродолжительный кусок большого нарратива ученые называют ключевой формой современной культуры, новой драмой, новым кино и новым романом . «Формат сериала удобно ложится на структуру жизни современного человека и укладывается в ритм повседневности» [8: 62].
Можно согласиться с утверждением А. Хитро-ва о том, что сериалы – это
«важнейшая культурная форма современности, которая предлагает образцы поведения, набор эмоцио-
нальных реакций, и именно поэтому ее очень интересно и важно изучать. Потому что через изучение сериалов можно понять, как воспроизводятся общественные отношения в нашей культуре» [16].
Неслучайно в последнее время вышли серьезные исследования этого феномена: книги А. Павлова «Престижное удовольствие. Социально-философские интерпретации “сериального взрыва”» [9] и А. Архиповой и Е. Неклюдовой «Эпоха сериалов. Как шедевры малого экрана изменили наш мир». Авторы последней книги отмечают:
«Следуя рекомендациям Г. Дженкинса, мы стараемся занять позицию “акафанов”, то есть исследователей и одновременно – фанатов, пропускающих свой собственный опыт, свое постыдное (на самом деле, как мы уже выяснили, престижное) удовольствие сквозь машину производства смыслов и интерпретаций» [1].
Уже не раз было отмечено, что в массовом увлечении сериалами очевидна тяга к большой форме:
«На фоне сумасшедшего потока информации, членимого на небольшие фрагменты, современный человек тянется к устойчивой рамке, которую задает сериал. С одной стороны, сериалы обеспечивают постоянство, с другой – вариации внутри этой рамки. Сериал дает возможность подольше задержаться в полюбившемся художественном мире. В то же время важно, что сериал – открытая форма» [7: 12].
***
В разгар пандемии, в период резкого снижения издания и продаж бумажных книг, компания «ЛитРес», лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, запустила новый формат своего контента – литературные сериалы . Это по сути формат веб-новеллы, имеющей большую популярность в Китае и Корее и являющейся аналогом телевизионных сериалов: раз в неделю публикуется новая глава, оканчивающаяся на самом интересном месте и подразумевающая продолжение истории. Примерами литературных сериалов можно считать «Пост» Д. Глуховского и «Просто Маса» Б. Акунина на Storytel Original, романы О. Роя, М. Трауб, А. Чижа, Е. Ветровой и М. Яскол на ЛитРес и др.
«Сериал, его ответвления, продолжения – по самой своей природе интерактивны. Его фрагментарность вызывает когнитивную активность по выстраиванию целостности и связности не только сюжета, но и всей строящейся картины реальности, ее деталировке. <…> Сериал порождает более интенсивную реальность, превосходящую интенсив реальности» [13: 40], - эти слова Г. Тульчинского во многом объясняют специфику проекта ЛитРеса. Книжные сериалы, написанные специально для платформы, выходили еженедельно одновременно в электронной и аудиоверсии. Такой вариант предлагал читателям доступ к книге еще в процессе ее создания (показательно, что на сайте подчеркивалось: роман – это черновик, а писатель пишет его прямо сейчас). О. Рой, автор романа- сериала «Будем как боги», о своем восприятии сериального формата книги сказал следующее:
«Главное преимущество в том, что я держу руку на пульсе – и реальных событий, и реакции читателей. И, если первое, в основном, нужно для того, чтобы убедиться, что события ра звиваются именно так, как ты себе и представлял, то второе куда важнее, ведь именно читатель – тот человек, для которого и пишется эта книга. Я хочу, чтобы ему было интересно, мне нравится узнавать его мысли, его идеи»1.
Сериал – это живой жанр сегодняшнего дня, он идеально вписывается в «культурную рамку, окружающую современного человека, и поэтому легко встраивается в его быт (и бытие) где-то между ток-шоу и социальной сетью»
-
[6] . Авторы проектов ЛитРеса явно апеллируют к особому типу сериального мышления, которое в значительной степени опирается на визуальную коммуникацию в отличие от прошлых типов мышления, опиравшихся на вербальные коммуникации. Г. Почепцов, характеризуя сериальное мышление, видит в нем
«сильную системность, во многом сходную с системностью доклипового мышления. Клиповое и сериальное мышление имеют важную общую черту – их матрицы выстраиваются не на рациональной, а на эмоциональной основе» [10].
Вводя для описания современных тенденций термин «конвергентная культура», американский теоретик медиа и исследователь современной культуры Генри Дженкинс исходит из того, что
«конвергенция представляет собой своего рода культурный сдвиг, предполагающий активное вовлечение потребителей в поиск новой информации и установление новых взаимосвязей между разрозненным медиаконтентом» [5].
Возможно, проект ЛитРеса можно рассматривать с точки зрения «культуры соучастия», по Г. Дженкинсу,
«в рамках которой фанаты и другие пользователи приглашаются к активному соучастию в создании и распространении нового контента» [5].
В теории конвергентной культуры важно понимание, что «основная цель сериалов – формирование поддержки множества уровней вовлеченности» [5: 128]. Так, писательница Мария Трауб призналась, что ее проект «Полное оZOOMление» оказался настоящей профессиональной радостью:
«Во-первых, потому что книжный сериал – новый формат не только для меня, но и для читателей. Во-вторых, я вернулась к любимой теме – описанию будней своей семьи. С начала самоизоляции я начала собирать материал, точнее, он сам шел в руки: дистанционные уроки дочки, родительские собрания онлайн, рабочие конференции – мои и мужа. Любое замкнутое пространство, в котором живут персонажи, – идеальная драматургическая “рамка”»2.
Можно с уверенностью предположить, что когда будет подробно анализироваться социокультурная ситуация пендемии-2020 (исследования нового жанра «корона-драма» уже появляются), наверняка возникнет вопрос о всплеске интереса к сериальному формату.
-
У. Эко, предлагавший использовать термин «серийность» как очень широкое понятие или как синоним «повторительного искусства», говорит о важности роли читателя так:
«Любой текст предполагает и всегда создает двойного образцового читателя (наивного и искушенного читателя). Первый пользуется произведением как семантической машиной и почти всегда он – жертва стратегии автора, который ведет его потихоньку через последовательность предвосхищений и ожиданий; второй воспринимает произведение с эстетической точки зрения и оценивает стратегию, предназначенную для образцового читателя первой степени. Читателю второй степени импонирует “сериальность” серии не столько по причине обращения к одному и тому же (обстоятельство, которого не замечает наивный читатель), сколько благодаря возможности вариации. Иначе говоря, ему нравится сама идея переделать произведение таким образом, чтобы оно выглядело абсолютно по-другому» [17].
В этом контексте заслуживает внимания эксперимент автора детективов Антона Чижа, который создал в рамках книжного сериала свой «поджанр» сториз-детектив «Трое в карантине и другие неприятности». Он и авторы команды «Антон Чиж Book Producing Agency» Марта Яскол и Евгения Ветрова придумали трех героинь, трех подруг, которые находятся в карантине в разных городах мира. Варвара Ванзарова, внучка сериального героя Антона Чижа, оказалась в начале пандемии в Болонье. Кира Богданова, героиня Марты Яскол, с детства мечтала играть в театре, когда ее мечта исполнилась и она попала на гастроли в Италию, то пандемия нарушила ее планы. Теперь вместе с труппой актеров она оказалась в обсерваторе под Саратовом, и неизвестный убийца быстрее, чем опасная болезнь, принялся уничтожать артистов. Для героини Евгении Ветровой, блогерши Анастасии Коржуе-вой, самой большой неприятностью в жизни был сломанный ноготь и размазанный макияж. Теперь же, вернувшись из Милана в Москву, она вынуждена провести в карантине две недели.
-
А. Чиж, играя роль не только соавтора, но и продюсера проекта, настаивает на том, что это совсем не роман-буриме, в нем нет случайностей. Отвечая на вопрос автора статьи, писатель объяснил свой эксперимент так:
«Если традиционная форма – пролонгированная история, то мы предложили другую форму: сменяющиеся авторы с едиными героями, а их героини – подруги. Сюжетные установки у авторов были единые: все происходит сейчас, в условиях закрытых границ и карантина, т. е. в замкнутом пространстве, героини – подруги, но они не встречаются друг с другом. Смысл в том, чтобы каждую неделю включиться в разные литературные игры. Это и есть почти журналистская литература, сторис. Причем важно, что мы ориентировались на три типа читателей: Варвара – сложная и интеллектуальная героиня, Ира – обычный средний человек, Настя – совсем “простая” барышня. Отличие заключается в том, что это пульсирующая структура. Можно начать читать с любой серии, поэтому здесь нет спойлеров».
Безусловно, практика публикации большого по объему художественного произведения «частями» возникла в книгоиздании давно. Романы практически всех русских классиков XIX и XX веков впервые печатались главами и частями в литературных журналах. Можно предположить, что сегодня «сериальность» некоторых проектов создается искусственно: нет никаких препятствий для издания книги сразу в полном объеме, однако здесь очевидно ставка делается на читателя, роль которого возрастает (рекламный слоган «роман-черновик пишется сейчас» – один из издательских мифов).
Сериал стал тем форматом, в котором
«драматургическое как таковое нашло свою идеальную форму. Существует огромный и предельно непохожий набор тем, сюжетов, стилей и манер. Это не статичная, а динамично – из года в год – обновляемая система: создатели сериалов переставляют и видоизменяют характеристики персонажей, придумывают новые сюжетные повороты. Возникают целые миры, в которых множество персонажей встречаются, расстаются, пересекаются, вступают в конфликтные связи, предъявляя тем самым ту или иную точку зрения на окружающую реальность» [15], – эти размышления Т. Хакимова о природе современного сериала могут быть абсолютно применимы к «литературным сериалам», апробированным ЛитРесом. Однако пока рано говорить о жанровых трансформациях современного романа, но с очевидностью можно обнаружить новые издательские и писательские стратегии.
Сериальность как практика нормирования и продвижения артефактов культуры общества массового потребления, связанная с многократным воспроизведением и вариативностью транслируемых смыслов и, что важно, ориентированная на коллективное творчество, может быть проиллюстрирована возрождением «старого» жанра романа-буриме . Жанровая проблема является одной из центральных в поэтике сериализации.
Off-современное (по С. Бойм [3]) отражение предполагает изучение боковых возможностей проекта критической современности. Можно предположить, что такой «боковой возможностью» трансформации романа XXI века в условиях «сериальности» стал роман-буриме. Игра в буриме, требующая от участников находчивости и версификаторского остроумия и в разные периоды литературной истории бывшая в моде (можно вспомнить Александра Дюма, который организовал в 1854 году конкурс буриме и опубликовал произведения 350 его участников), обретает в XXI веке новое звучание.
В ХХ веке было несколько заслуживающих внимания романов-буриме. Один из них – роман «Большие пожары», идея написания которого возникла в 1926 году у главного редактора журнала «Огонек» М. Кольцова. К участию были приглашены 25 писателей (А. Грин, Л. Леонов, И. Бабель, К. Федин, А. Толстой, М. Зощенко и др.). Замысел «первого коллективного романа СССР» был описан следующим образом:
«Каждым из участников романа будет написана одна глава, причем замысел, фабула и герои романа являются едиными. Таким образом, “Огонек” создаст единственный в своем роде художественный документ (выделено мною. – М. Ч. ), в котором будут сосредоточены особенности стиля и характер творчества всех ныне существующих литературных групп в лице их виднейших представителей»3.
Действие романа происходит в южном советском городе Златогорске, в котором вспыхивают загадочные пожары, природу возникновения которых расследуют герои.
В 1964 году В. Катаев, Ю. Казаков, В. Аксенов, В. Войнович, Ф. Искандер, Г. Владимов и др. создали роман-буриме «Смеется тот, кто смеется». Детективно-сатирическая интрига о Васильчикове разворачивалась на протяжении десяти номеров московской газеты «Неделя». Интересно, что продолжение зависело от воли последующего автора, которого определяли согласно жребию. Во введении к роману был любопытно представлен «коллективный автор», который
«рождался десятикратно, между 1896 и 1935 годом. Он исхитрился учиться в прославленной первой Одесской гимназии и, несмотря на все это, ходить в малышовую группу детсадика имени Артема в Донецке, щеголять в обольстительной форме суворовца»4.
В 1968 году в детском журнале «Костер» стала выходить коллективная фантастическая повесть-буриме «Летающие кочевники». Авторами стали А. и Б. Стругацкие, Г. Гор, О. Ларионова, А. Томилин и др. Первая глава, определяющая сюжет повести, была написана Стругацкими на основе созданного ими рассказа «Дикие викинги». Предварили свой эксперимент писатели следующими словами:
«Вдвоем фантастику писать можно, знаем по собственному опыту. А втроем?.. А вдесятером?.. Одна голова – хорошо, две – лучше, а десять, наверно, еще лучше? Правда, говорят, что у семи нянек дитя без глазу, но мы надеемся, что это не про нашу коллективную повесть»5.
Использование в коллективном романе-буриме «заготовок» или, напротив, существование текста в дальнейшем как самостоятельного говорит о романе-буриме как о некоей эксперименталь- ной площадке. Показателен следующий пример: в 2004 году главный редактор саратовской газеты «Новые времена» Сергей Боровиков предложил сочинить коллективный авантюрный роман «Долг платежом зелен», в котором приняли участие В. Войнович, А. Слаповский, Р. Арбитман и др. Р. Арбитман в ответе на вопрос автора статьи комментирует свое участие так:
«Когда мне предложили участвовать в проекте, у меня в голове уже крутился сюжет рассказа об учительнице – законспирированном спецагенте. И поскольку я был почти в самом начале, когда свободы было еще много, я вписал уже придуманный текст в этот роман-буриме, чуть-чуть его закамуфлировав, чтобы связать с предыдущими кусками. Будь я ближе к финалу, пришлось бы уже идти на поводу у других авторов. Потом я безболезненно смог публиковать “свою” главу в качестве самостоятельного рассказа “Баба Ксюча”. Правда, мой сюжет остальные авторы почти проигнорировали – вернее, обогнули его и пошли дальше. Конечно, это было баловство – и чем дальше, тем сильнее все валяли дурака. Тем более что профессиональных писателей среди участников было немного, а монстр только один – Войнович».
Абстрагированность от собственного текста, некое автоматическое письмо, присущее массовой литературе, можно было обнаружить и в первом интернет-романе Романа Лейбова «Роман», в создании которого мог принять участие любой пользователь. Сам читатель выбирал варианты развития сюжета, ходы ассоциаций, отсылок, то есть включался в процесс развития разветвленного другими романного дерева. Человек читающий в системе массовых коммуникаций превращается в человека участвующего, человека пишущего. Показателен в этом отношении эксперимент Макса Фрая с его «Идеальным романом» (1999). Книга составлена исключительно из последних абзацев произведений различных жанров (авантюрного романа, женского романа, криминального чтива, фантастики, фэнтези, исторического романа и др.).
В 2012 году так называемые новые реалисты (Г. Садулаев, Д. Новиков, И. Абузяров, Н. Рубанова, Е. Сафронова, С. Шаргунов, И. Мамаева и др.) были приглашены журналом «Урал» для создания романа-буриме «Шестнадцать карт». Г. Аро-сев, комментируя публикацию романа, признался:
«Это, безусловно, не шедевр словесности. Одним резко бросится в глаза различие стилей и писательского опыта соавторов. Другим не понравится трактовка темы. Третьим – что-либо еще. Ничего не поделаешь – великие творения не пишутся вшестнадцатером. Зато благодаря «Шестнадцати картам» можно убедиться сразу как минимум в том, что молодая российская литература обладает неплохим резервом и что есть еще люди, готовые работать за голую идею»6.
Участник проекта Е. Сафронова назвала один из важных итогов появления романа:
«Потомки получили исторический источник по состоянию русского литпроцесса начала XXI века – имена, темы, сюжет, фразеология, даже возможность “каоли-ции” авторов не только ради коммерческого продукта, но и ради чистой забавы. Многое в “Шестнадцати картах” характерно для нашей эпохи – прежде всего, выбор темы, главного героя, а также ряд сюжетных “наворотов”. По ним когда-нибудь можно будет изучать “массовые требования” читателя XXI века» [11].
Сериалы, предлагающие новые формы нарратива, становятся символом новой культуры, возникающей на фоне кризиса привычных форматов, это масштабный феномен, выявляющийся на пересечении новых и старых медиа. Показательно, что все приведенные выше романы-буриме публиковались в журналах и выходили как «книжный сериал».
Роман-буриме «#12 Война и мир в отдельно взятой школе» возник сразу в интерактивном виде (каждая новая глава появлялась на сайте) и является примером существования жанра в условиях новых медиа. Авторы проекта вдохновились идеей романа «Большие пожары» 1927 года, републикованного Д. Быковым в 2009 году, однако задачу преследовали другую:
«Нам кажется, что подобный “сериальный” формат со сквозными персонажами и непредсказуемым сюжетом “подогреет” интерес детей к чтению, и они с нетерпением будут ждать продолжения истории, чтобы скорее узнать, что же случится с полюбившимися героями дальше» [7].
Состав привлеченных авторов очень разнообразен (Д. Драгунский, Д. Быков, Э. Веркин, Н. Дашевская, А. Гиваргизов, В. Бочков и др.). Старшеклассники гимназии № 12 им. Бернарда Шоу, или попросту «Двенашки», встречаются на вечеринке у Ани Шергиной. Впереди – счастье летних каникул. Но до легкости ли бытия, если Калачевский квартал, где живут многие ребята, сносят ради строительства бизнес-центра, а значит, друзьям придется менять не только место жительства, но и школу. И самое прямое отношение к новой стройке имеет Павел Николаевич Шергин, папа Ани Шергиной. Популярная культура становится одним из главных мест сражений, благодаря которому подростки заявляют о своей независимости. Этот роман-буриме выполняет еще и культуртрегерскую функцию и рассчитан на эффект узнавания и литературную игру не только с романом «Война и мир», но и со всей «школьной» классической литературой. Так, например, Д. Драгунский дает героям говорящие имена (Элен Курагина / Лёля Абрикосова, Пьер Безухов / Петя Безносов и др.).
«#12 Война и мир в отдельно взятой школе» повторяет архитектонику романа «Большие пожары»: номер главы, название главы, фамилия автора, рисунки к главам. Иллюстрации в обоих произведениях играют роль скреп: выполненные в едином стиле, они помогают создать у читателя ощущение целостности текста. На сайте проекта написано, что каждый автор, помимо самой главы, пишет подробный отчет для коллег, объясняя каждый сюжетный ход и действия героев. Интересно, что ни один из авторов не продолжает то, что написано до него: каждая глава добавляет новый виток сюжета, который зачастую больше запутывает действие. Смысловые мостики между главами, конечно, есть, но иногда возникают и неизбежные для коллективного романа нестыковки. Так, мама Ани стала бабкой, которая заговаривает «свищи и прыщи» (а еще она первоклассный гидролог, которая и нашла реку Стикс под Москвой), а потом оказалось, что про маму Ани все придумала ее одноклассница Оля Дейнен, обладающая даром словотворчества. Роман больше похож на коллекцию оригинальных завязок для детектива.
Один из кураторов проекта Анастасия Ско-рондаева в интервью автору статьи рассказала о возникновении сюжета следующее:
«Сюжет роману-буриме “#12Война и мир в отдельно взятой школе” задал Д. Драгунский. Мы создали файл для нашего внутреннего пользования, где коротко описали сюжет и основных героев с характеристиками, которыми их наделил Драгунский. И этот файл передавали всем участникам, каждый оставлял там замечание для следующих участников проекта. Мы очень хотели “смешать” авторов разных жанров, сделать так, чтобы среди участников были и мэтры, и молодые писатели. Очередность выстраивали мы с моей коллегой Анной Хрусталевой. Конечно, авторы читали тексты друг друга и шпаргалку. На написание очередной главы мы давали две недели. Иногда нам хотелось сказать кому-то из писателей: обратите внимание, пожалуйста, на этого героя, не бросайте его; или попросить развить какую-то часть сюжета. Но мы этого не делали. Решили, что роман-буриме должен прожить свою жизнь, чтобы в нее вмешивались только писатели, а не кураторы и авторы идеи, ведь роман-буриме – это литературная игра».
-
А. Архипова и Е. Неклюдова в своем исследовании о сериалах много говорят о природе фанатского творчества:
«В современный фанатский дискурс обязательно входят “вглядывания”, поиск скрытого смысла, желание максимально приблизиться и погрузиться в самую суть любимого произведения, автора или феномена. Во второй половине XX века, с развитием массовой культуры и информационных технологий, позволяющих не только смотреть/слушать/читать, но и бесконечно воспроизводить записанное, переживает бурный расцвет культура так называемых пасхалок или пасхальных яиц (англ. Easter Eggs - шутки, секреты, нарочно спрятанные в программе, на диске или в компьютерной игре)» [1: 22].
Любопытно, что «сериальность» романа-буриме «#12 Война и мир в отдельно взятой школе» подтверждается активным участием фанатов, которые прекрасно манипулируют с «пасхалка-ми». Так, после публикации 21-й главы кураторам пришло письмо:
«Добрый день! Давно слежу за вашим проектом и очень захотела принять в нем участие. Решила рискнуть - отправляю уже написанную 22 главу. Не сочтите за дерзость. Понравится - публикуйте и ни о чем меня больше на спрашивайте. Не понравится - так тому и быть, останется мне на память. С приветом, Антонина Книппер» [7] .
Эта литературная мистификация вошла в роман 22-й главой. На мистификацию намекает и Д. Быков в эпилоге романа, когда оказывается, что коллективный роман создан десятиклассниками, участниками литературного кружка Алексея Львовича Соболева. Создание романа -это проверка работоспособности литературо-центризма и способ остановить снос любимой школы. Соболев говорит своим ученикам:
«Ясно, что сегодня ничего нового не выдумаешь, и потому вы воспользовались матрицей “Войны и мира” - романа настолько же популярного, насколько и позабытого <...>. В вашей книге есть все приметы современного романа, успешного ровно настолько, чтобы его прочитали и на другой день забыли»7.
Эпилог романа-сериала создавался практически по сценарию В. Беньямина, давно предупреждавшего, что «читатель в любой момент готов превратиться в автора» [2: 44]. Его написали юные читатели, победители Всероссийского литературного конкурса «Класс!» Н. Канунников и А. Никоноров:
«Мерцали фонари, гирлянды, которые висят здесь круглый год, и звезды. Мерцали глаза прохожих, каждый из которых точно помнит свое далекое детство и знает, что никогда в него уже не вернется. Но дайте кому-нибудь из них листок, ручку, и скажите: “Пиши!”, -он бы тут же написал о своих юношеских подвигах книгу. А может и не одну. Не верите? Спросите любого» [7].
Представляются интересными размышления писателей об участии в романе-буриме «#12 Война и мир в отдельно взятой школе» (для всех это был первый опыт создания коллективного романа), которыми они поделились с автором статьи. Так, известная детская писательница Нина Дашевская призналась, что быть внутри процесса значительно интереснее:
« Каждый закидывает несколько удочек, а срабатывает потом далеко не все. Когда писатель создает свой текст, он увязывает все концы, в коллективном романе это невозможно, поэтому ожидать литературного шедевра от такой работы сложно. Это эксперимент».
Валерий Бочков, автор серьезных романов для взрослой читательской аудитории, сравнил свою работу с созданием телевизионного сериала:
«Роман- буриме в больше степени игра в литературу, чем литература как таковая. Я сторонник крепкого сюжета, который при коллективном творчестве просто невозможен. Сравнение с джазом будет уместным: когда после формирования мелодии каждому музыканту дают возможность импровизации. Как и в музыке, тут нужно наслаждаться процессом, результат не так важен. Элемент соперничества тоже помогает, в таком формате становится очевидным если не талант, то уж точное владение ремеслом».
Для молодого писателя Булата Ханова коллективный роман - это поиск жизнеспособных форм литературы,
«попытка преодолеть некую стагнацию, вырваться на новый простор и представить проект, который вписывается в новую действительность с ее демократическими инициативами: флешмобами, ридинг-группами, сквотами. Я воспринял собственное участие как вызов, как возможность включиться в новую цепочку».
Стремительно развивающаяся сюжетная линия, возможность возникновения боковых сюжетных линий и причудливого развития судьбы второстепенных героев характерны для романа- буриме. Однако эти тексты, написанные в разные эпохи, представляют больший интерес для «экспресс-анализа» идиостиля писателя, для самих же авторов, не привыкших работать в условиях «коммунальной квартиры», эта литер атурная игра часто является площадкой для апробации текстов, которые до или после становятся самостоятельными произведениями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роман-буриме XXI века в его экспериментальном становлении заставляет вспомнить размышления У. Эко об открытом произведении. Эко считал, что в современном литературном процессе важен не традиционный автор, а модель автора, который создает текст, порождающий, в свою очередь, модель читателя, который должен быть готов к самостоятельному пониманию и интерпретации произведения. Изучение теории информации позволило Эко сделать вывод о том, что
«всякое отклонение от банального лингвистического кода влечет за собой новый тип организации, который предстает как неупорядоченный по отношению к исходной организации, но в то же время - как упорядоченный в сопоставлении с параметрами нового дискурса… Современное искусство создает новую лингвистическую систему с ее собственными внутренними законами» [17: 200].
Знаки, коды и смыслы, элементы авторской «семиотической стратегии», указывающие на «двойное кодирование», наполняются конкретным содержанием именно в процессе акта чтения, а процесс и результат освоения произведения оказывается в сложных отношениях коммуникации между авторскими намерениями и результатами читательского восприятия. Наиболее экстремальную форму это сотрудничество принимает в произведениях, которые Эко называет произведением-в-движении
(work-in-movement). Думается, что этот термин вполне применим к литературным сериалам и романам-буриме, о которых шла речь. У. М. Тодд в своей книге «Социология литературы» высказывает важную мысль о том, что вопрос о значении для поэтики «серийных» художественных текстов «возникает в свете новых научных дисциплин, таких как теория восприятия, речевой анализ и лингвистика диалога, которые обратили внимание на роль “центробежных”, фрагментарных и незавершенных феноменов в литературном процессе» [24: 232]. Насколько это «сериальное» движение в истории литературы будет продолжительным, покажет время.
Список литературы Сериальность прозы цифровой эпохи: к вопросу о новых тенденциях литературного процесса
- Архипова А., Неклюдова Е. Эпоха сериалов. Как шедевры малого экрана изменили наш мир. М.: РИПОЛ классик, 2020. 474 с.
- Беньямин В . Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. 240 с.
- Бойм С. Будущее ностальгии [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nlobooks.ru/magazines/ neprikosnovennyy_zapas/89_nz_3_2013/article/10513/ (дата обращения 11.06.2020).
- Генис А. Метемпсихоз. Сериал как загробная жизнь романа [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/04/84172-metempsihoz (дата обращения 15.08.2020).
- Дженкинс Г. Конвергентная культура. Столкновение старых и новых медиа. М.: РИПОЛ классик, 2019. 384 с.
- Иванова Е. Формула любви // Октябрь. 2014. № 7. С. 110-116.
- Кушнарёва И. Как нас приучили к сериалам // Логос. 2013. № 3 (93). С. 9-20.
- Павлов А. Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время. М.: Изд. Дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 560 с.
- Павлов А. Престижное удовольствие. Социально-философские интерпретации «сериального взрыва». М.: РИПОЛ классик, 2019. 350 с.
- Почепцов Г. «Карточный домик»: как на смену клиповому мышлению приходит сериальное [Электронный ресурс]. Режим доступа: https:// hvylya.net/analytics/society/kartochnyiy-domik-kak-na-smenu-klipovomu-myishleniyu-prihodit-serialnoe.html (дата обращения 09.08.2020).
- Сафронова Е. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://alyona-saphro.livejournal.com/58169.html (дата обращения 19.07.2020).
- Тодд У. М. Социология литературы: институты, идеология, нарратив. СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. 352 с.
- Тульчинский Г. Л. Факторы сериальности в массовой культуре и литературе // Культ-товары: Массовая литература современной России между буквой и цифрой: Сб. научных статей / Под ред. М. А. Черняк. СПб.: РГПУ, 2018. С. 38-50.
- Усманова А. Умберто Эко: парадоксы интерпретации. М.: Пропилеи, 2000. 189 с.
- Хакимов Т. Инсталляция героя // Октябрь. 2014. № 7. С. 99-104.
- Хитров А. «Сериалы - это ключевая форма современной культуры» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://postnauka.ru/talks/43769 (дата обращения 25.06.2020).
- Эко У. Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Eko/Inn_Povt.php (дата обращения 19.08.2020).