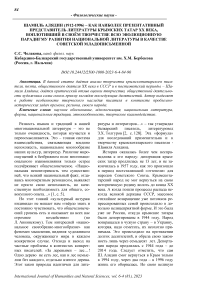Шамиль Алядин (1912-1996) - как наиболее презентативный представитель литературы крымских татар ХХ века, воплотивший в своём творчестве всю эволюционную парадигму развития национальной литературы в качестве советской младописьменной
Автор: Чолакова С.С.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 6-4 (81), 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье даётся анализ творчества крымскотатарского писателя, поэта, общественного деятеля XX века в СССР и в постсоветский периоды - Шамиля Алядина, даётся критический отзыв оценки творчества, общественной деятельности художника слова сквозь призму взглядов последующих десятилетий. Автор выделяет в работе особенности творческого наследия писателя в контексте проблемно-исторических задач времени, региона, своего народа.
Научное обоснование, идеологизация, национальная литература, форма, национальные традиции, этноособенность, творческое взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/170199672
IDR: 170199672 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-6-4-84-90
Текст научной статьи Шамиль Алядин (1912-1996) - как наиболее презентативный представитель литературы крымских татар ХХ века, воплотивший в своём творчестве всю эволюционную парадигму развития национальной литературы в качестве советской младописьменной
Разность языков и традиций в нашей многонациональной литературе – это не только очевидность, которая изучается и переосмысливается. Это – тонкая система взаимодействия, связывающая воедино непохожесть, национальное многообразие наших культур, литератур. Различие мироощущений в безбрежном поле многонационального взаимовлияния только острее подчёркивает общечеловеческое. «Национальная неповторимость тем существенней, что всякий национальный факт, отдаваясь многократным резонансом, выявляет не просто свою непохожесть, но качественную необходимость для общего, совокупного опыта…» [1, с. 5].
Но этот тонкий «культурный антураж индивида» не мешает нам «твёрдо знать и постоянно чувствовать, что общечеловеческий уровень есть и оказывает на всех нас огромное воздействие» (по Л. Аннинскому). Тем интересней «национальное своеобразие-многообразие» как феномен мышления, видения художником человека, окружающего мира в каждом конкретном случае. Отсюда и выход на частные проблемы в контекстах конкретных писателей. «За деревьями – лес…! Одно дерево не есть лес, как и лес немыслим без каждого, отдельно взятого дерева. Этот закон природы идентичен для лите- ратуры и литераторов…» – так утверждал балкарский писатель, литературовед З.Х. Толгуров [2, с. 128]. Эта «формула» для исследований применительна и к творчеству крымскотатарского писателя -Шамиля Алядина.
История оказалась более чем несправедлива к его народу: депортация крымских татар продлилась не 13 лет, и не закончилась в 1957 году, как это произошло в период постсталинской «оттепели» для народов Советского Союза. Крымскотатарский народ не мог вернуться на свою историческую родину вплоть до конца ХХ века. А когда пошли процессы распада некогда великой державы СССР, массовое стихийное возвращение уже потомков репрессированных семей происходило в довольно нелицеприятной форме. И это была уже не Россия, откуда крымские татары были депортированы в 1944 году. Народ возвращался в чужую страну – в Украину, которая, надо отметить, их неохотно принимала. Это происходило на протяжении долгих десятилетий, и обрела свою законность лишь через семьдесят лет. Депортация народа продлилась с 1944 года – до 2014 года. Следует отметить, что сам Ш. Алядин смог вернуться в Крым только в 1994 году, через два года – в 1996 году жизнь его оборвалась. Но свою великую миссию перед соотечественниками он и его соратники успели выполнить. Это как раз тот вариант, когда говорят о роли личности (личностей) в истории народов. Для нас, для народа, для последующих поколений, остался через произведения этих авторов, большей частью искусственно сохранённый, художественный язык, написанные на крымскотатарском языке ещё с периода довоенного периода, романы, повести, поэмы, стихотворения, популярные песни. А также статьи, публикации в периодической печати, материалы публичных выступлений писателей (поэтов) на родном языке: доклады, обращения, письма, протоколы пленарных заседаний Союза писателей, руководителем которых они в разные годы были (и есть в настоящее время – Урие Эдемова).
Однако если обратиться к «карте» истории языков и к фактам истории языков, то научно доказано: если этнос «вырван» и находится вне своей языковой среды, не имея возможности развивать литературнохудожественную языковую традицию эволюционно, естественно, то достаточно двух-трёх поколений, чтоб язык, а вместе с ним и народ постепенно будет ассимилирован (речь идёт не об устной форме языка) Унификация и давление со стороны «макро – языков» как естественный процесс, «поглощает» литературную традицию этноса, а затем и его культуру. Феномен «выживания» крымскотатарского языка и литературы – очевиден, чему будет посвящено в дальнейшем ещё немало исследований, в том числе и историков, поскольку на протяжении ХХ века крымскотатарский язык постоянно претерпевал воздействия «из – вне» и не мог развиваться естественным путём в своей этноязыковой среде. Давление на формирование этноощущения со стороны двух «макро – языков» (в период 1944-2014 гг.): русского и… узбекского, киргизского, казахского (в Средней Азии – тюркской языковой семьи), балкарского, ногайского, карачаевского (на Северном Кавказе), азербайджанского (в Азербайджане) и т.д. – был очевиден.
Именно в этих регионах, республиках (позже – странах) за семьдесят лет пребы- вания в депортации крымскотатарский народ вынужденно жил. И здесь не уйти от фактов: городские, поселковые жители из числа крымских татар учились в русских школах, а сельские жители получали среднее образование в узбекских, казахских, киргизских (и других) национальных учебных заведениях. Удивительно, но язык был сохранён на чужбине «теплично», благодаря усилиям небольшой группы литераторов старшего поколения, тех, кто в 1930-е годы изучал нормативный крымскотатарский язык в школах, техникумах на «большой» родине – в Крыму. Это те немногие, кто уже писал в 1930-е годы прозу, поэзию на своём родном языке, кто пережил войну, депортацию и чудом выжил к периоду 1960-х годов или у кого в семьях представители старшего поколения (чудом оставшихся в живых после войны и депортации) смогли передать детям знания письменной формы родного языка. Могут возразить оппоненты тем, что постсталинская «оттепель» позволила депортированному народу на чужбине открыть своё издание газеты «Ленин Бай-рагъы» («Ленинское знамя»), издавался журнал «Йылдыз». Да, с середины 1960-х годов в Ташкенте (в Узбекистане) начали издаваться книги на крымскотатарском языке. Однако… Увы, большая часть представителей этноса спустя двадцать лет после депортации народа читать на родном языке и понимать написанное уже не могла, поскольку крымскотатарский нормативный язык внуки депортированных в школах Средней Азии не изучали (к коим отношусь и я – автор…).
Особая национальная интонация, определяющая жизнь собственных текстов романной прозы характерна для крымскотатарского советского писателя Шамиля Алядина – представителя советской многонациональной литературы ХХ века. Он никогда не был украинским писателем, хоть в последние два года жизни жил на исторической родине, однако в «новой» для него стране – Украине.
«Влияние этой личности на крымскотатарскую культурную жизнь было такое мощное, что Шамиль Алядин, без сомнения, ещё долго, незримо и дальше будет находиться среди своего народа». «Ещё почти ребёнком, в двенадцать лет, оставив родительский дом, он перебрался в бывшую ханскую столицу Бахчисарай, чтобы получить образование в здешней семилетке. Тогда, как и во все последующие годы на всем протяжении ХХ века Шамиль Алядин на этом «фронте» борьбы своего народа оказался на передовой. Правда, жизнь писателя, как известно, пришлась на трудное, трагическое время. Можно только представить себе: молодого поэта, чей первый сборник «Улыбнулась земля, улыбнулось небо» увидела свет ещё в 1932 году, окружала целая плеяда талантливых крымскотатарских литераторов. Вспомним лишь некоторые из самых ярких имен: Б. Чобан-заде, А. Гирайбай, А. Ильми, А.С. Айвазов, А. Одабаш, А. Лятиф-заде, В. Ипчи, А. Акчокраклы, М. Джавтобели ... Большинство из этих людей погибли в лагерях и тюрьмах, были расстреляны, кто-то с подорванным здоровьем тоже недолго после войны любовался миром. Шамилю Алядину же выпал удел жить и хранить память о бывших друзьях и коллегах, которые один за другим у него на глазах трагически уходили из жизни. Это напоминает экзистенциальные постулаты: «мужество жить», «смелость не уйти самому из жизни». (Олесь Кульчинский. Институт востоковедения им. А.Ю. Крымского, г. Киев. Украина) [3]. Так писал о Ш. Алядине О. Кульчинский, исследуя поэтапно все периоды творческого и жизненного пути писателя.
«Шамиль Алядин приложил немало усилий к репатриации своего народа в Крым. Добиваясь возвращения крымских татар на Родину ещё с первых лет их ссылки, писатель становится его непосредственным инициатором в конце восьмидесятых годов ХХ века. А потом и сам в 1994 году поселяется на полуострове, где давно переиначены улицы его детства и юности. Чтобы понять, что красной нитью в творчестве Шамиля Алядина пробегает именно экзистенциальное измерение его бытия как тяжёлых соревнований и борьбы, невыносимых мыслей и переживаний, разговоров с самим собой, собственной душой, часто жгучих воспоминаний и же- ланных мгновений радости, надо слегка пробежаться глазами по названиям его произведений: «Я – Ваш царь и Бог», «Приглашение к дьяволу на пир», «Фонари горят до утра», «Девушка в зеленом», «Если любишь», «Жизнь», «Ельмаз» и др. Следовательно, и в трудные часы Алядин не изменял себе как писателю, как художнику, который выжил из числа сотен утраченных, должен донести не просто светлую память о погибших, а сберечь, сохранить их Слово, и саму художественноязыковую традицию». (О. Кульчинский) [3]. Так украинский учёный-литературовед Олесь Кульчинский даёт оценку творчеству крымскотатаркого писателя – нашего земляка.
К сожаленью, недолго Шамиль Алядин прожил на исторической родине в Крыму после своего возвращения. Уход из жизни такого масштаба художника – это большая утрата для общечеловеческой, мировой культуры и литературы, а не только страны, народа. Отсюда, спустя время, мне хотелось разыскать автора этих литературоведческих статей, в том числе и публикаций-некрологов, о крымскотатарском писателе. Так в интернете удалось выйти на страницу автора статьи – Олеся Кульчин-ского, чтоб дополнительно поговорить с ним о любимом нами писателе – Шамиле Алядине (поменяться впечатлениями, узнать точку зрения…). До сих пор храню несколько электронных писем пана Куль-чинского ко мне, как потом показало время, пережившего своего крымскотатарского друга ненадолго. Так сложилось «многоцветье» восприятия книг, героев произведений крымскотатарского писателя (поэта) Шамиля Алядина в моём сознании. А началось это «многоцветье» приобщения к творчеству Шамиля Алядина, как выяснилось десятилетиями позже, в далёком моём детстве, в дальверзинских бараках, где в 1960-е годы жили наши бабушки и дедушки, а мы приезжали к ним на каникулы в гости...
Общеизвестно, что многие современные крымскотатарские песни, вошедшие в музыкальную и художественную культуру крымскотатарского народа и исполняющиеся на концертах, свадьбах сегодня, напи- саны были на стихи поэта Ш.Алядина. Это было связано ещё с одним историческим для народа фактором: именно Ш. Алядин был инициатором и организатором первого крымскотатарского национального ансамбля на чужбине в 1960-х годах. Сам писал и современные стихотворные тексты для репертуара артистов. Сохранились грамзаписи, пластинки фирмы «Мелодия» песен на стихи Ш. Алядина. А тогда, в 1960-е годы в Ташкенте республиканское узбекское радио приняло решение один раз (!) в неделю – по пятницам, один час передавать концерт крымскотатарской музыки. Я помню наших бабушек в полутёмных бараках, помню немощного дедушку Маммета – ветерана, инвалида Великой Отечественной войны, нетерпеливо ждущих пятничного вечера, чтоб один час в неделю послушать родные сердцу мелодии по радио. (Раньше - запрещалось, а теперь разрешили!) Так мы, дети, внуки репрессированных родителей, узнавали народные мелодии и быстро «схватывали» слова песен. Именно в тот период по радио звучала довольно часто песня на стихи Ш.Алядина (1958 г.) «Севдим сени». И помню, как с замиранием сердца, с увлажнившимися от слёз глазами, наш дедушка-фронтовик, весь искалеченный войной, неподвижно лёжа на миндерах, слушал исполнение известной крымскотатарской артистки эту песню, как мне казалось – его молодости.
«Севдим сени» (Тюркю)
Чешме ничюн ёргъун акъа? Ничюн сеси къальпни якъа? Келеджектинъ, не кельмединъ, Алем манъа кулип бакъа!
Мен яш эдим, сербест эдим, Аят недир бильмез эдим.
Яз акъшамы корьдим сени, Яшлыгъымны алып кеттинъ!
Джебэлернинъ котегинде, Узакъ дагълар этегинде Анъдым сени, кельдим санъа, Дерт къалдырдынъ юрегимде!
1958 с.
(построчный перевод Чолако- вой С.С.)
Мы встретились с тобою летним днём, Я молода была тогда, глупа.
Для счастья вечер нас озарил огнём – Ты молодость мою забрал тогда.
Чего ж спокойно так родник журчит? Зачем те звуки сердце моё жгут?
Ты не пришёл, и всё вокруг молчит, В горах сейчас и птицы не поют…
Ушёл, оставив мне одну печаль, (Вот как судьба смеётся надо мной..!) В заботах и слезах мне умереть не дай, Ты – в сердце у меня, и я – с тобой.
Это – любовная лирика поэта Шамиля Алядина. Лирический пейзаж в данном стихотворении помогает живописанию чувств лирического героя, девушки, которая ждёт возлюбленного у родника. Пейзаж создаёт некий контраст с «бурей» в душе героини. Природа здесь является частью этой большой любви, но которая, к сожаленью, несчастна. В музыкальном переложении эта песня обрела форму старинной девичьей песни-тоски по любимому. Она протяжна, чувственна, мелодична. И наши бабушки в 1960-е годы, слушая эту песню, подпевали и плакали, хоть эта песня не старинная, не трагическая. Лирическая, элегическая. Однако только через много лет, слушая эту песню в наши дни по интернету, в записях разных современных певцов на манер современного городского романса, я понимаю слёзы тех пожилых женщин – солдатских вдов, переживших войну, депортацию и переживающих неопределённость «нового» времени «оттепели». Глубокая философия скрыта под внешне обыденной текстовой (лироэпической) реальностью стихов: напоминание о далёкой родине, о беге и неотвратимости времени, о прошлом, которое таким и было для многих женщин старшего поколения, потерявших своих мужей и любимых в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Автор это тонко почувствовал, передал это состояние поэтично, хоть текст написан «от женского лица».
Была в этой творческой работе у поэта
Ш. Алядина и «сверхзадача»: удержать внимание, интерес не только к своему творчеству, а, в целом, к искусству своего народа у большой аудитории тюркослуша-телей далёких от родины краёв Средней Азии. Именно данная «сверхзадача» стимулировала сохранять своё авторское, творческое мироощущение, свою национальную самобытность, личностную само-выраженность. Более того, в этот внутренний душевный порыв, подъём, на чужбине, автор вынужденно каждый день в течение 50 лет «бросал» себя, сжигал себя в нём, чтоб помочь соотечественникам «не обезличиться», жить с гордо поднятой головой. Это состояние жизни, творчества Ш. Алядина «на острие ножа» помогало на протяжении долгих лет не ассимилировать его народу.
Потом уже, в институте, обучаясь на филологическом факультете, я читала прозу писателя, предвзято относясь к переводам, к исторической достоверности образов, деталей, событий, критиковала или восхищалась авторским слогом тех или иных повестей, романов, сюжетными коллизиями, к показу нашей «крымскотатар-скости», то есть - этно-традиционности, этно-особенности, ментальности и т.д. Пыталась спорить с отцом на предмет талантливости или, напротив, коньюктурно-сти произведений Шамиля Алядина. Мои родители хоть и были далеки от литературного творчества, но это были (и есть) довольно образованные, читающие люди. Пытались мне объяснять, что со столь высокой меркой «к нашим» авторам подходить нельзя. «Эти писатели должны быть хотя бы изданы, поэтому многое в их произведениях так «стушёвано», неярко обозначено, без остроты и историчности, идеологизировано...» - так спорил со мной отец. Однако «Теселли», Я - ваш царь и бог», «Фонари горят до рассвета», «Чавуш-оглу», «Приглашение к дьяволу на пир» и др. произведения автора мы читали всей семьёй. Отец даже пытался читать на крымскотатарском языке произведения Ш. Алядина, чтоб сравнить оригинал с переводом. И однажды… он написал Ш. Алядину письмо-благодарность за интересное, так нужное народу творчество.
Приглашал писателя в гости в Крым, с остановкой у нас в доме для отдыха на родине. Письмо отец отправил в Ташкент, в издательство Гафура Гуляма, где были изданы те книги, которые мы так трудно находили и «бурно» читали всей семьёй. И это происходило не только в нашей семье. Так, пока на политическом фронте велась отчаянная борьба крымскотатарских диссидентов, Ш. Алядин применял свои рычаги публичного и творческого влияния, чтобы обеспечить этой негласной войне надёжный тыл. Проза писателя насчитывает более 70 книг, переведённых на разные языки: узбекский, таджикский, украинский, русский и др.
Некоторые произведения Шамиля Аля-дина связывают его с Украиной не менее тесно, чем с национальными российскими, татарскими традициями, традициями Востока (Средней Азии), где он жил в долгие годы депортации. Роман «Тугай-бей» задумывался автором как эпохальное полотно об истории казацко-крымскотатарских отношений. К сожалению, он так и остался недописанным. Писатель готовил его особенно основательно и тщательно, что требовало много времени. Он скрупулёзно изучал документы из общей украинской и крымскотатарской истории, обращался не только к советским архивам. Над этим писатель работал уже в 1990-е годы, после возвращения на историческую родину. Писатель преследовал и чётко обозначенные социальные цели - разбить идеологические стереотипы, которые навязывались советскими учебниками истории и прежней литературой, по новому взглянуть на историю многолетней конфронтации в отношениях этих народов. Это было крайне важно - его народ возвращался не просто на родные географические пространства, но в новое государство.
После смерти Ш. Алядина в 1996 году, незавершённый роман «Тугай-бей» был переведён и издан на украинском языке, языке народа, в страну которого автор вернулся через пятьдесят лет изгнания. Его произведения были переведены также на узбекский язык - язык страны депортации, и это, по нашему мнению, является знаком искренней признательности и глу- бокого уважения народов многонационального сообщества таланту и гражданскому подвигу Ш. Алядина.
Вот как отзывается о Ш. Алядине профессор литературы Исмаил Асаноглу Керим: «Его статьи, рассказы, повести и романы, его способности писателя, его феноменальная память и талант живого рассказчика о жизни довоенного Крыма запали мне в душу так, что при каждой встрече с писателем я старался как можно больше расспросить о крымскотатарских поэтах и писателях 1920-х и 1930-х годов. Ведь он был живым свидетелем множества событий и, в общем, всего национального лите- ратурно-культурного процесса того времени. Тем более, в послевоенный период в советской прессе трудно было встретить что-либо о нашей национальной культуре ... В хронологическом измерении мои разговоры с Ш. Алядином продолжались более тридцати лет. Всё интересное я пытался записывать. Думаю, что сейчас сотни страниц этих записей являются важными не только для меня, они значимы и для нашей общей истории, не только крымскотатарского народа…» (Взято из статей о творчестве писателя на интернет-сайте: Шамиль Алядин).
«Большое видится лишь на расстоянье!» – так писал классик. И сейчас, спустя десятилетия, реально вижу «наши» крымскотатарские проявления традиционноэтнических маркеров в творчестве Ш. Алядина: виноградники, под сенью которых отдыхал Чауш-оглу, ощущаю свежесть родников – чешме, близ которого проходили свидания влюблённых, с Усеи-ном Токтаргазы прогуливаюсь по улочкам Бахчисарая, вдыхая аромат крымских фруктов.
И поскольку слова, эксклюзивные мыс- ли крымскотатарского писателя не только информируют читателя, несут определённые смыслы, но и «открывают другие миры», обозначают явления – словом, формируют модели культурной идентичности с выявлением традиционно-этнических маркеров, предполагающих возможность органического взаимодействия этнического, интернационального, транслокального в сознании личности и общества. Что всегда вызывает интерес у читателей…
Список литературы Шамиль Алядин (1912-1996) - как наиболее презентативный представитель литературы крымских татар ХХ века, воплотивший в своём творчестве всю эволюционную парадигму развития национальной литературы в качестве советской младописьменной
- Аннинский Л.А. Контакты. - М.: Советский писатель, 1982. - С. 5.
- Джангуразова Ж.С., Чолакова С.С. Фёдор Абрамов и литераторы Кабардино-Балкарии: художественные параллели // Сборник статей по творчеству русского писателя Ф.Абрамова и балкарских писателей З. Толгурова, А. Теппеева, Э. Гуртуева и др. - Нальчик: ООО "Полиграфсервис и Т", 2012. - 136 с.
- Алядин Ш. К 100-летию со дня рождения // Биобиблиографический указатель. Составители: З. Ислямова, Д. Белялова, Г. Ягьяева. - Симферополь, 2012. - 92 с.