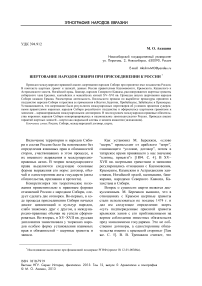Шертование народов Сибири при присоединении к России
Автор: Акишин Михаил Олегович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Проведен международно-правовой анализ шертования народов Сибири при принятии ими подданства России. В контексте шертных грамот и записей, данных России правителями Касимовского, Крымского, Казанского и Астраханского ханств, Ногайской орды, башкир, народов Северного Кавказа, рассматриваются шертные грамоты сибирского хана Ереняка, хантыйских и мансийских князей XV–XVI вв. Проведен анализ шертования народов Сибири казакам Ермака. Рассмотрена деятельность Посольского приказа по выработке процедуры принятия в подданство народов Сибири и практика ее применения в Якутии, Бурятии, Прибайкалье, Забайкалье и Приамурье. Устанавливается, что шертование было результатом международных переговоров об условиях принятия суверенными правителями коренных народов Сибири российского подданства и оформлялось шертными грамотами и записями – неравноправными международными договорами. В последующем международно-правовые обязательства коренных народов Сибири инкорпорировались в национальное законодательство России. Проведен анализ гарантий шертных записей – шерти как сакральной клятвы и захвата аманатов (заложников).
Россия, сибирь, международный договор, шерть
Короткий адрес: https://sciup.org/147218838
IDR: 147218838 | УДК: 394.912
Текст научной статьи Шертование народов Сибири при присоединении к России
Включение территории и народов Сибири в состав России было бы невозможно без определения взаимных прав и обязанностей сторон, участвовавших в этом процессе, и их внешнего выражения в международноправовых актах. В теории международного права выделяются следующие основные формы выражения его норм: договор, обычай и односторонние акты государств (акты обязательства, признания и протеста).
Конкретизируя эти теоретические положения применительно к правовым формам отношений России с народами Сибири, следует сделать две оговорки. Во-первых, в ходе процесса присоединения Сибири начался диалог цивилизаций и культур народов, слабо знакомых друг с другом, а международно-правовые обычаи не успели сформироваться. Во-вторых, в XV–XVII вв. русская дипломатия заимствовала у тюркских народов особую форму установления взаимных прав и обязанностей – шертные грамоты и записи.
Как установил М. Бережков, «слово “шерть” происходит от арабского “шэрт”, означающего “условие, договор”, потом в татарское время принявшего у нас значение “клятвы, присяги”» [1894. С. 4]. В XV– XVII вв. шертными грамотами и записями регулировались отношения с Касимовским, Крымским, Казанским и Астраханским ханствами, Ногайской ордой, калмыками, башкирами, народами Северного Кавказа, Казахстана и Сибири.
Вопрос о сущности шерти является дискуссионным. М. Бережков выяснил, что в отношениях с Крымом шертные грамоты стали использоваться не позднее 1474 г. и дал им следующее определение: шерть «суть подтвержденные присягой грамоты крымских ханов с его приближенными на верное соблюдение известных обязательств пред московскими государями. Это не собственно договоры, а односторонние обязательства именно с крымской стороны» [Там же. С. 5]. В. В. Трепавлов считает, что
«официально шертные соглашения оставались двусторонними договорами, но на самом деле являлись декларацией обязанностей младшего участника договора по отношению к старшему» [2007. С. 137].
Дискуссия о сущность шертования народов Сибири продолжается уже несколько столетий. Г. Ф. Миллер исходил из позиции, согласно которой международное право появляется в Европе только в середине XVII в. Процесс присоединения Сибири он рассматривал как завоевание Россией, частью цивилизации Европы, непросвещенных народов Азии. Отсюда, шертование он считал только актом, по которому народы Сибири переходили в «прямое холопство» московскому государю [1999. С. 166, 294].
Теория завоевания Сибири была воспринята И. Э. Фишером, П. А. Словцовым, В. К. Андриевичем, П. Н. Буцинским и др. Впрочем, уже И. Э. Фишер стал отходить от интерпретации шерти как клятвы на «прямое холопство» российскому самодержцу. Он впервые выдвинул положение о том, что принесение шерти вело к вассальной зависимости [1774]. Последняя позиция оказала заметное влияние на советских историков Л. П. Потапова [1953. С. 166], П. Е. Тадыева [1959. С. 47] и др.
Принципиально новый подход к исследованию шерти сформулировал С. В. Бахрушин. В работе «Енисейские киргизы XVII в.» ученый установил, что князья «Киргизской землицы» с начала установления отношений с Россией исходили из принципа равноправия. В 1680 и 1684 гг. киргизы добились заключения шертных договоров на условиях «оборонительно-наступательного союза». Анализ этих договоров привел С. В. Бахрушина к выводу о том, что в них закреплялся «принцип суверенной равноправности киргизского князца и московского государя» [1955. С. 219, 220].
В последующем понятие шерти было уточнено историком-правоведом М. М. Федоровым. Он доказал, что шерть народов Восточной Сибири «представляла собой особый вид источника права», и рассматривал ее как нормативно-правовой акт, «который закреплял права и обязанности аборигенов» [1978. С. 24]. В. Н. Иванов на основе исследования присоединения Якутии к России пришел к выводу о том, что «шерть можно приравнять к договору, фиксирующему определенные условия о взаимных обязанностях; а обряд шертования – к процедуре подписания этого договора» [1999. С. 73].
Концепция, согласно которой шертова-ние – это процедура принятия юридического акта с нормативным содержанием, позволяет применить к его изучению не только методы исторического познания, но и юридической науки. Такая постановка проблемы предполагает решение ряда задач: во-первых, установление фактов на основе методов этнографического и общеисторического исследования; во-вторых, квалификация собранных фактов на основе методологии юридической науки.
Приведение к шерти народов Сибири началось после распространения в 1478 г. на территорию Новгородской республики полной юрисдикции московского государя. В XIII–XV вв. власть Новгорода распространялась на Югорскую землю, включая княжества остяков и вогулов Северо-Западной Сибири [Грамоты Великого Новгорода…, 1949. С. 9]. После покорения Новгорода московский великий князь Иван III для закрепления Югры под своей властью направлял туда ратных людей. В походах 1483 и 1499 гг. русские ратники захватывали городки местных князей и брали их в плен, собирали дань на обширной территории по Тоболу, Иртышу и Оби. Оба похода закончились мирными переговорами и шертова-нием местных князей [Алексеев, 2007. С. 274–277].
После похода 1483 г. в Москву прибыл «от всея земли Кодские и Югорские» вогульский князек Пыткей. Он привез поминки от кодских князей и просил великого князя освободить пленных югорских князей. Его просьба была удовлетворена. В конце 1484 г. кодские князья Молдан, Сонта и Пыткей прибыли из Зауралья под стены Усть-Вымского городка и заключили с епископом Филофеем и местными вымскими князьками мир «на том, что им лиха не смыслити, ни силы ни чинити над пермскими людьми, а великому князю правити во всем». Князья скрепили мир священным обрядом – «со золота воду пили». После похода 1499 г. князцы Югорской земли признали верховенство московского государя и были приведены «к роте по их вере» [Полное собрание русских летописей, 1977. С. 125; 1982. С. 49; Разрядная книга…, 1977. С. 56; Бахрушин, 1955. С. 152].
Отношения с Сибирским ханством также оформлялись процедурой шертования. В сентябре 1555 г. в Москву прибыли послы сибирского хана Едигера для переговоров о военном союзе в обмен на согласие хана стать вассалом московского самодержца и платить ему дань «со всякого черного человека по соболю». Переговоры с сибирскими послами затянулись почти на три года, так как русская сторона настаивала на дани в 30 тыс. соболиных шкурок в год, а татарские послы старались снизить эту ставку. Наконец, русская сторона согласилась на дань в 1 000 соболей. В сентябре 1557 г. Едигер прислал в Москву шертную грамоту, в соответствии с которой «обязывался быть у царя в холопстве и платить каждый год всю дань беспереводно» [Полное собрание русских летописей…, 2000. С. 248, 276, 285; Сборник Русского исторического общества…, 1887. С. 478–480].
«Сибирское взятие» Ермака сопровождалось приведением к шерти покоренных народов, о чем сохранились свидетельства в Есиповской и Погодинской летописях: «...царство Сибирьское взяша и царя Кучю-ма и с вои его победиша, под его царскую высокую руку привели многих живущих тамо иноземцов, тотар, и остяков, и вогулич, и прочия языцы, и к шерти их по их вере привели многих, что быть [им] под его царскою высокою рукою до веку, покамест изволит Бог вселенней стояти, и ясак им дава-ти государю по вся лета без переводу, на руских людей зла никакова не мыслити. А которые похотят к государю в ево госу-дарьскую службу, и тем бы его государьская служба служити прямо и недругом его госу-дарьским не спускати, елико Бог помощи подаст, и самем им не изменить, к царю Ку-чюму и в ыные орды и улусы не отъехать, и зла на всяких руских людей никакова не думать, и во всем правом постоянстве стоять» [Полное собрание русских русских летописей…, 1987. С. 57, 85, 111, 123, 133.].
Косвенно факт того, что Ермак и его казаки приводили к шерти покоренные народы, подтверждает фольклор хантов. В одной из записей говорится: «Остяки с Ермаком не воевали. Когда Ермак пришел, то наш вождь встретился с ним, встали друг напротив друга и поменялись, передавая из рук в руки лук и ружье: тот нашему ружье, а наш – лук». Согласно другой записи, «когда Ермак пришел в Айполово, решил не трогать остя- ков, а дать им решить: покориться или воевать. В Айполово семь шаманов собрались и сказали своему народу: “Дайте нам семь дней подумать!” Посовещались с богом и решили подчиниться и платить дань» [Материалы по фольклору…, 1978].
Поход Ермака не был санкционирован московским самодержцем, de iure он являлся частной войной. Кроме того, Ермак не имел образцов шертных грамот и записей. С. У. Ремезов в конце XVII в. следующим образом описывал процедуру, которую применяли ермаковские казаки при приведении к шерти: пятидесятник положил на стол окровавленную саблю и велел «целова-ти за государя царя, что им (татарам. – М. А. ) служити и ясак платити по вся годы, а не изменити» [Сибирские летописи, 2010. С. 333].
Но уже в 1584 г. результаты этого похода были признаны царем. Послу к римскому императору Лукьяну Новосильцеву предписывалось говорить о том, что поход Ермака являлся справедливой войной против Кучу-ма, расплатой за нарушение им подданства и «непослушание». Факты шертования Еди-гера и Кучума позволяли заявить, что сибирские «цари» «бывали из рук государей наших», а сам Кучум был «посаженником» Ивана IV. О походе Ермака послу следовало говорить: «И государя нашего отец за это непослушанье велел на него итти из Перми казаком своим волжским и казанским и ас-тороханским с вогненным боем. И те казаки, пришед, царство Сибирское взяли, людей многих побили, а царь побежал в Казатцкую орду. И ныне государь наш послал в Сибирь воеводу своего, и сидят в Сибири государевы люди, и Сибирская земля вся, и Югра, и кондинской князь, и пелымской князь, и во-гуличи и остяки, и по Оби по великой реке все люди государю добили челом и дань давать почали» [Памятники дипломатических сношений…, 1851. Стб. 922].
Поход Ермака поставил перед русской дипломатией сложные задачи: во-первых, определение условий, на которых вошли в состав России покоренные Ермаком народы; во-вторых, выработка механизма и форм приведения в подданство новых сибирских «землиц». Именно в этих условиях управление Сибирью было поручено Посольскому приказу. Для решения поставленных задач в нем были проведены переговоры с плененной татарской знатью и сибирскими князьями.
В 1580–1590-х гг. на переговоры в Москву ездили ляпинский князь Лугуй (1586), князья Васпукольской волости Игичей Ала-чев и его брат Онжа Юрьев (1594). Они принесли шерть на подданство московскому самодержцу и получили от него жалованные грамоты. В них гарантировались права сибирских князей на управление и суд в их владениях, самостоятельный сбор ясака на царя при условии верности ему. Подобные переговоры позднее проводились в Москве и с остяцкими князьями Пегой орды (1602 и 1607–1610 гг.), князем евштинских татар Тояном (1604 г.) [Миллер, 1999. С. 278–279, 297, 306, 337–338, 353, 400–401, 423].
В 1598/99 г. в Посольском приказе была разработана и включена в наказы сибирским воеводам особая часть – «жалованное слово», которая стала правовой основой для оформления подданства народов Сибири. Прибыв на место службы, воевода должен был зачитать «слово» от имени самодержца русскому и ясачному населению. В «слове» подтверждалась необходимость соблюдения «ясашными людьми» шерти, чтобы они «служили, прямили, и во всем добра хотели… на чем ему, государю, шерть дали». Обязанности князцов и «лутчих людей» заключались в наблюдении за платежом ясака и предотвращением «шатости и воровства» соплеменников. Интересно, что в «жалованном слове» преступное деяние («лихое дело», «воровство») рассматривалось как нарушение шерти, а не закона.
Соблюдению обязанности подданства корреспондировала обязанность государя «держать во всяком их царском милостивом призрении и ото всяких людей… их оберегать, чтоб им никаких обид, и продажи, и убытков, и налогов, и разоренья ни от кого не было». Государь, как носитель суверенитета, должен был не только оберегать своих подданных от внешних угроз, но и поддерживать правопорядок внутри страны. Закреплялось право «иноземцев» «бить челом» на воевод и служилых людей, допустивших в отношении них «насильство» или взятие ясака «не по государеву указу» [Вершинин, 1998. С. 67].
Таким образом, «жалованное слово» можно рассматривать как акт инкорпорации в российское законодательство тех международно-правовых обязательств, которые брали на себя «иноземцы» при шертовании. Но этим значение «слова» не ограничива- лось. Для сибирских воевод оно являлось образцом для шертной записи, которую им предстояло взять при приведении в российское подданство вновь обнаруженных ими народов Сибири.
Этот образец шертной записи воеводы могли конкретизировать применительно к местным условиям. Например, в «извести-тельной грамоте» верхотурским воеводам по случаю кончины царя Михаила Федоровича и восшествия на престол его сына Алексея Михайловича от 20 июля 1645 г. говорилось: «А будет на Верхотурье в съезжей избе шертовальныя записи нет, или чего в прежних шертовальных записях против нынешней нашей московской записи не написано, и вы б (воеводы. – М. А. ) велели написать на Верхотурье, для татарскаго и вагульскаго шертования, новую шертоваль-ную запись, примеряся нынешней нашей московской записи...» [Собрание государственных грамот…, 1822. С. 420].
На практике, узнав о «новой землице», воеводы посылали в нее отряд служилых людей. Глава отряда получал наказ, в котором ему поручалось предложить князцу и «лучшим людям», чтобы он «с родом своим и с племенем и со всеми улусными людьми был под государевою нашего царя и велика-го князя… всеа Русии высокою рукою в холопстве». Сказав о московском государе, что он «страшен и велик, и многим государствам государь и обладатель, и от его госу-дарского ратного бою никто не мог стоять», служилые люди сообщали, что ранее «про их землю… было неизвестно», ныне же они посланы не для ратного боя, а для приведения их в русское подданство [Сборник документов…, 1960; Материалы по истории…, 1970. С. 1067–1096].
Приведение к шерти порождало ряд проблем. Во-первых, московские власти требовали, чтобы к шерти приводились правители сибирских народов, так как исходили из аксиомы монархической формы правления, согласно которой носителем суверенитета являлся монарх [Акишин, 2012]. Но у многих народов Сибири не сложилось государственности. На практике к шерти приводили правителей территориальных политических объединений, глав «родов» и семейных кланов («лучшие мужики»), а иногда просто отдельных «улусных людей», прибывших на переговоры. По мере укрепления своей власти русская администрация стремилась охватить шертованием всех взрослых мужчин – глав семей.
Во-вторых, многие народы Сибири не имели своей письменности. Поэтому шерто-вание происходило в два этапа. На первом этапе князцы и «лучшие люди» новой «землицы» устно давали шерть служилым людям, посланным воеводой (признание государевой власти на словах). На втором этапе воевода приводил к шерти всех глав родов и семей при своем вступлении в должность, а также при помазании на царство нового российского самодержца (принесение присяги по шертной записи).
В 1630 – начале 1640-х гг. отряды русских служилых людей приводили к шерти якутских князцов. Выполняя предписания наказов, они «рассказывали» якутам о русском царе, призывали их под его «высокую руку» и «государево жалованное слово сказывали». Иногда отряды русских служилых людей встречали вооруженный отпор. С 8 ноября 1630 г. по 9 мая 1631 г. отряд тобольского служилого человека А. Доб-рынского находился в осаде в построенном им острожке. С сопротивлением сталкивались отряды енисейских атамана И. Галкина (1631, 1634 гг.), сотника П. Бекетова (1632, 1633 гг.), служилых людей Б. Байкшина и П. Ходырева (1636 г.), томского служилого Д. Копылова (1637, 1638 гг.). «Замирить» Якутскую землю удалось только к концу 1630-х гг. [Материалы по истории…, 1970. С. 1080; Иванов, 1999. С. 27–58].
Образец шертной записи для якутов был составлен уже после приведения их в подданство, не ранее 1645 г., т. е. после образования Якутского уезда и назначения воевод. По шертной записи князцы и «лут-чие люди» клялись в том, чтобы «быти мне и всему моему роду под ево государевою царскою высокою рукою в вечном прямом ясачном холопстве» и платить ясак «по вся годы без недобору». Заверяли, что не будут переезжать из своих кочевьев в «немирные землицы» юкагиров, бурят, монголов, дауров, вступать с ними в какие-либо сговоры. Обязывались не грабить и не убивать служилых, торговых и промышленных людей, не подстрекать к тому других. Напротив, обещали охранять всех русских от тех, у кого возникнет «какой заговор или измена», выступать заодно с русскими против «немирных людей», биться вместе со всем своим родом, «не щадя головы своей до смер- ти» [Материалы по истории…, 1970. С. 967– 969].
Русское продвижение в Прибайкалье началось в 20–30-х гг. XVII в. Российское подданство населявшие этот регион буряты и эвенки принимали в основном мирно. Так, в 1629 г. сотник П. Бекетов призвал князцов «Кодогоня, да Кульза, да Андая со товарищи… под государеву царскую высокую руку» и привел их к шерти. В 1630 г. атаман М. Перфильев привел к шерти князцов Аба-кая, Братая, Кодогуня. Некоторые князцы не сразу соглашались на принятие подданства. Так, в 1635 г. булгатский князец Илан (Ойланка) отказался приносить шерть. Окончательно территория Прибайкалья была включена в состав России после основания в 1661 г. Иркутского острога, ставшего административным центром нового русского уезда [Сборник документов…, 1960. С. 18–21, 26–33, 43–44].
Шертные записи с бурятских «князцов», видимо, брали воеводы тех городов, чьи служилые люди собирали с бурят ясак. Так, 14 мая 1641 г. пред якутскими воеводами «брацкой князец Коршун Бурлаев… по своей вере государю шертовал, что ему под государевою царьскою высокою рукою с своими улусными людьми быть в холопстве вовеки неотступно, и ясак государю с себя и с роду своего и с улусных своих людей полно давать учнет по вся годы беспереводно, и иных братцких людей учнет под государеву царьскую высокую руку приводить, а которые братцкие люди непослушны будут, и ясаку с себя государю не учнут давать, и он Куршун на непослушных братцких людей учнет государевых людей водить войною». Следует отметить, что эта запись содержала обязательства и на российской стороне: «…за то ему Куршуну будет государево жалованья и от недругов ево будет ему обо-ронь» [Там же. С. 37].
В Енисейской приказной избе в конце XVII – начале XVIII в. применялся собственный образец шертной записи. Судя по тому, что в ее тексте употребляются слова «братцких людей», запись является текстом клятвы, к которой приводились буряты. Запись начинается словами «я, имярек, даем шерть великому государю… по своей бу-сорманской вере» и содержит обязательства «великому государю служить и прямить и добра хотети во всем, и ясак… давати по вся годы безпеременно… и ему великому госу- дарю не изменять, и над его государевыми служилыми людьми дурна никакова не чинить и не побивать» [Памятники сибирской истории…, 1882. С. 24–25].
В 40-х гг. XVII в. отряды служилых людей В. Колесникова, И. Похабова, И. Галкина и П. Бекетова пришли в Даурию, на территорию Восточного Забайкалья и верховьев Амура. Расселявшиеся в этом регионе племена бурятов и тунгусов в основном мирно приносили шерть и вступали в российское подданство. Окончательно эта территория вошла в состав России после основания в 1658 г. Нерчинского острога, ставшего административным центром нового уезда Российского государства.
В середине XVII в. началось русское продвижение в Дючерскую и Гиляцкую земли, располагавшиеся вниз по Амуру и в бассейнах Шилки, Аргуни и Амура. Приведение в российское подданство племен тунгусов, дауров, гогулей, дючеров, натков и гиляков отличалось рядом особенностей: во-первых, осуществлялось при значительном участии промышленных людей; во-вторых, вызвало пограничный конфликт с цинским Китаем.
Инициатива в присоединении Приамурья исходила от якутских воевод. В 1643 г. П. П. Головин снарядил в этот регион экспедицию из служилых и промышленных людей во главе с письменным головой В. Д. Поярковым, которая в течение трех лет прошла Амур до его устья, а затем через Охотское море вернулась в Якутск. В 1649 г. новый якутский воевода Д. А. Францбеков по челобитью торгового человека Е. П. Хабарова разрешил ему организовать экспедицию из «охочих людей» на частный и казенный счет, поставив перед ней политические, дипломатические и исследовательские задачи. С 1650 по 1655 г. весь Амур был присоединен к России, а местное население в основном мирно шертвало на русское подданство.
Летом 1653 г. в Приамурье прибыл из Москвы представитель российского самодержца Д. И. Зиновьев и в торжественной обстановке сказал жалованное слово местным князцам и «лучшим людям». Видимо, после этого владетели этих народов били челом московскому государю, «чтоб государь пожаловал, своим государевым служилым и охочим людям воевать и грабить их не велел, а они де, иноземцы, государю ясак с себя по своей мочи платить учнут, и быти под его государскою царьского величества высокою рукою в вечном холопстве ради, только б государь пожаловал, велел их оберегать от богдойского царя Андрикана» [Русско-китайские отношения…, 1969. С. 200].
Присоединение к России территории Забайкалья и Приамурья привело к конфликтам с монгольскими тайшами и Китаем по вопросам территориального размежевания и двоеданничества части местного населения, т. е. по вопросам о пределах юрисдикции соседних государств. Кульминационным пунктом этого пограничного конфликта стала агрессия цинского Китая 1684–1689 гг. Одним из формальных поводов для агрессии был вопрос о подданстве князя Ганти-мура.
Даурский князь Гантимур принес шерть на российское подданство еще в 1651 г. и «…давал с себя и с роду… волею своего без аманатов соболиной ясачной казны по 5 и по 3, и по 2, и по соболю с человека, а роду ево и улусных его людей будет с 500 человек…». Однако в 1654 г. Гантимур бежал в Китай, где получил чин цзолина, четвертый по значимости в маньчжурских восьмизнаменных войсках, и значительное жалование. В 1667 г. даурский князь вновь вернулся в русское подданство. После этого китайская сторона на протяжении двух десятилетий требовала выдачи Гантимура. В 1684 г. князь с сыновьями принял православие в Нерчинске, а в 1685 г. был вызван в Москву. В дороге он умер, однако его сын был торжественно принят царем и записан в дворяне по московскому списку [Там же. С. 272, 275, 498].
Еще одной проблемой при присоединении Забайкалья к России было сопротивление российской власти сильной монголоязычной группировки табунутов, которая насчитывала до 6 тыс. чел. Нередко в 60– 80-х гг. XVII в. табунуты при откочевках в низовья Селенги и к Еренским озерам вступали в вооруженные столкновения с русскими и бурятами. Однако в условиях агрессии цинского Китая в Приамурье они приняли российское подданство. Важно подчеркнуть, что актом принятия их в подданство была не обычная шертная запись, а «договорные статьи».
Договор с табунутскими сайтами и шуленгами было заключен окольничим Ф. А. Головиным 12 марта 1689 г. Родона- чальники табунутов клялись быть под царскою «высокою рукою в вечном холопстве», прекратить насилия в отношении русских и ясачных людей, бороться с врагами России. Сайты и шуленги обещали платить ясак, поставлять для воинских и других государственных нужд подводы с фуражом и выделять людей для обслуживания подвод. Они присягали не взимать дань в свою пользу с бывших кыштымов, а также прекратить угон у них лошадей и скота.
С русской стороны сайтам и шуленгам гарантировались их владельческие права, административная и полицейская власть задерживать убийц и «зломыслящих» людей, передавать этих лиц местной администрации. Родоначальники сохраняли право суда по нормам обычного права: они должны были «стеречь накрепко», чтобы улусные люди друг другу никаких «обид и налогов не чинили», лошадей и скота «не отгоняли» [Сборник документов…, 1960. С. 331–333].
Конкретно-исторические исследования присоединения отдельных народов Сибири вызвали дискуссию о сущности подданства сибирских «иноземцев». Так, В. В. Трепалов критикует позицию, согласно которой дата принятия подданства тем или иным народом устанавливается «на основании первого же соглашения, договора местной знати с Москвой или провинциальным российским начальством» и сложившуюся на этой основе традицию празднования юбилеев «добровольных вхождений» этих народов в состав России. Он считает, что «отношения подчинения и подданства русская сторона и ее партнеры зачастую воспринимали совершенно по-разному», и предлагает рассматривать присоединение того или иного народа к Россию не одномоментно, а как длительный процесс [2007. С. 6–7].
Думается, ученый не различает международно-правового акта, которым устанавливалась полная юрисдикция России над какой-либо территорией и населением, с одной стороны, и организации эффективного контроля государством за этой территорией и населением – с другой. Международно-правовой акт шертования на российское подданство порождал право России на полную юрисдикцию над народом и территорией его проживания. В частности, это отражалось в том, что на новых подданных распространялась администра- тивная и судебная власть России; устанавливалось их ясачное обложение. Совсем иная проблема – эффективность реализации местной администрацией этих правомочий.
Шертование народов Сибири обеспечивалось двумя видами гарантий – собственно клятвой-шертью и захватом аманатов (заложников). Шерть-клятва имела сакральное значение и должна была затрагивать основы мировоззрения лиц, ее приносивших. В наказах воеводам, послам и служилым людям предписывалось приводить «иноземцев» «…к прямой шерти, разыскав подлинно, какая у них вера и на чем они шертуют, чтоб у них никакого обмана и лукавства не было» [Полное собрание законов…, 1830. С. 238].
В отношении тюрков и монголов, у которых русские заимствовали процедуру шер-ти, выполнить условие истинности религиозной клятвы было достаточно просто. Мусульмане шертовали на Коране, ламаисты – по тибето-монгольскому обряду буддийской веры. Сложнее было установить религиозные верования язычников. Помимо разнообразия религиозных представлений народов Сибири, следует учитывать, что даже у одной народности религиозные культы различались в зависимости от родовой принадлежности.
Религиозные клятвы хантов и манси, проживавших на Северо-Западе Сибири, были чрезвычайно разнообразны и отражали различия в верованиях не только отдельных племен, но и родов. Как установил С. В. Бахрушин, в XVI–XVII вв. ханты, по требованию русских, при шертовании совершали особый магический обряд. Они клали под ель на медвежью шкуру две сабли острием вверх «супротивно», под «жабой берестяной», и привязывали к елке две другие сабли острием вниз. Люди, приносившие шерть, обходили ель под сабли, приговаривая: «по их (русских. – М. А. ) праву бог казни» [1955. С. 152].
В начале XVIII в. религиозные клятвы хантов претерпели изменения. По свидетельству Г. Н. Новицкого, ханты шертовали перед медвежьей шкурой, на которую клали нож, топор и другие «страсти орудия». В этой обстановке шертующий повторял слова клятвы, подсказываемые толмачем: «Пусть растерзает меня медведь, пусть топор отрубит мне голову, пусть убьет меня этот нож» и т. д. [1941. С. 54].
Якуты, как установил С. В. Бахрушин, при шертовании пальмою рассекали собаку надвое, «а сам идет в тот промежек и землю в те поры в рот мечет, и говорит с толмачем на том шертовании: буде де он не учнет государю служить, ясаку платить и его де та пальма рассекет так же, что ту собаку рассе-кет» [1955. С. 65].
Шертная запись бурят содержала следующую клятву: «Нам бы, за нашу неправду, рыбы в воде и зверя в поле, и птицы не добыта, и чтоб нам, за нашу неправду, с женами и с детьми и со всеми своими людьми помереть голодною смертью, и чтоб нам, за нашу неправду, со всем своим животом и скотом напрасно погибнуть, и чтоб нас, за нашу неправду государская хлеб и соль по воде, и по земле не носила; и как по земле поедем, или пойдем, нас бы земля поглотила; а как по воде поедем, и нас бы вода потопила» [Памятники сибирской истории, 1882. С. 24–25].
Второй формой гарантий был захват аманатов из числа «лучших людей» и их ближайших родственников. Порядок «взятия» и содержания аманатов регулировался в воеводских наказах и грамотах Сибирского приказа. Из «иноземцев» предписывалось «князцом или иным лутчим людем по человеку или по два из улуса быти у себя в острожке в аманатех по переменам по году или по полугода или помесячно или как пригоже, смотря по тамошнему делу».
Таким образом, шертование было результатом международных переговоров о принятии российского подданства. Шерть – это сакральная клятва народов нехристианского вероисповедания, заимствованная Россией в отношениях с тюркскими народами не позднее XV в. Шертные записи – это неравноправные международные договоры, которые составлялись российской стороной и подтверждались более слабыми в политическом отношении правителями нехристианских народов. В некоторых случаях, как, например, после переговоров с табунутами о подданстве, шертная запись могла быть заменена «договорными статьями».
Учитывая конкретные политические условия и расстановку сил, Российское государство чрезвычайно гибко использовало шерть при присоединении Сибири. После принесения шерти на российское подданство международно-правовые нормы, выра- женные при шертовании, инкорпорировались в национальное право России, что формально выражалось в жалованных грамотах сибирским князьям и клаузуле жалованного слова воеводских наказов.
Важно подчеркнуть, что шертные договоры исходили из признания суверенности сторон, включали взаимные права и обязанности, основывались на принципе добросовестного выполнения международных обязательств. Юридической гарантией соблюдения достигнутого соглашения была сама шерть и аманаты-заложники. Письменная фиксация шерти в форме записи происходила по требованию Московского государства, составлялась, видимо, только в одном экземпляре на русском языке и была дополнительной гарантией достигнутого соглашения.
SHERT OF THE PEOPLES OF SIBERIA UNDER THE ACCESSION TO RUSSIA
Список литературы Шертование народов Сибири при присоединении к России
- Акишин М. О. Проблемы международной правосубъектности при присоединении Сибири к России//Российский юридический журнал. 2012. № 5 (86).
- Алексеев Ю. Г. Походы русских войск при Иване III. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. 464 с.
- Бахрушин С. В. Научные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 3, ч. 2: История народов Сибири в XVI-XVII вв. 300 с.
- Бережков М. Крымские шертные грамоты. Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1894. 22 с.
- Вершинин Е. Н. Воеводское управление в Сибири (XVII век). Екатеринбург, 1998. 204 с.
- Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. 409 с.
- Иванов В. Н. Вхождение Северо-Востока Азии в состав Русского государства. Новосибирск: Наука, 1999. 199 с.
- Материалы по истории Якутии XVII в. (документы ясачного сбора). М.: Наука, 1970. Ч. 1-3. 1269 с.
- Материалы по фольклору хантов. Томск: 1978. 216 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с., ил.
- Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком, 1715 г. Новосибирск: Новосибгиз, 1941. 105 с.
- Памятники дипломатических сношений c империею Римскою. СПб.: Тип. II отд. СЕИВК, 1851. Т. 1: с 1488 по 1594 г. 852 стб.
- Памятники сибирской истории XVIII века. СПб.: Тип. МВД, 1882. Кн. 1: 1700-1713. 551, XXXVI с.
- Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л.: Издво АН СССР, 1953. 444 с.
- Полное собрание законов Российской империи. СПб.: Тип. II отд. СЕИВК, 1830. Т. 3: 1689-1699. 692 с.
- Полное собрание русских летописей. Л.: Наука, 1977. Т. 256 с.
- Полное собрание русских летописей. Л.: Наука, 1982. Т. 235 с.
- Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 1987. Т. 36, ч. 1. 255 с.
- Полное собрание русских летописей. М.: Наука, 2000. Т. 13. 544 с.
- Разрядная книга 1475-1605 гг. М.: Наука, 1977. Т. 1. 188 с.
- Русско-китайские отношения в XVII в.: Материалы и документы. М.: Наука, 1969. Т. 1: 1608-1683. 614 с.
- Сборник Русского исторического общества. СПб., 1887. Т. 59: Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литовским, 1533-1560. 539 с.
- Сборник документов по истории Бурятии. XVII век. Улан-Удэ: Тип. Мин-ва культуры БурАССР. Вып. 1. 1960. 494 с.
- Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. М.: Тип. Селивановского, 1822. Ч. 3. 566 с.
- Сибирские летописи. Репр. изд. 1907 г. СПб.: Альфарет, 2010. 397 с.
- Тадыев П. Е. Поворотный пункт в истории Горного Алтая//Великая дружба. 200 лет добровольного вхождения алтайцев в состав России. Горно-Алтайск, 1959. С. 41-60.
- Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-XVIII вв. М.: Вост. лит., 2007. 255 с.
- Федоров М. М. Правовое положение народов Восточной Сибири (XVII -начало XIX века). Якутск: Якут. кн. изд., 1978. 208 с.
- Фишер И. Э. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием. СПб., 1774. 632 с.