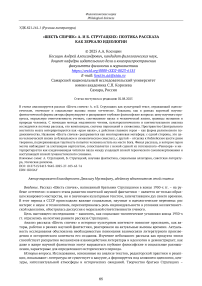«Шесть спичек» А. и Б. Стругацких: поэтика рассказа как зеркало идеологии
Бесплатный доступ
В статье анализируется рассказ «Шесть спичек» А. и Б. Стругацких как культурный текст, отражающий идеологические, этические и социальные вызовы эпохи «оттепели». Показано, как в рамках короткой научнофантастической формы авторы формулируют и раскрывают глубокие философские вопросы: цену научного прогресса, моральную ответственность ученого, соотношение науки и человеческой жизни, границы познания и природы человека. С помощью метода медленного чтения, культурологического и контекстуального анализа исследуются поэтика рассказа, его композиция, система персонажей и символика. Пространство Центрального института мозга интерпретируется как «храм науки», а действия главного героя – как форма религиозного подвижничества. Название «Шесть спичек» раскрывается как многоуровневая метафора: с одной стороны, это цена человеческой жизни (в буквальном и символическом смыслах), с другой – отсылка к библейским шести дням творения, подчеркивающая тщетность попыток человека встать на место Бога. Финал рассказа, в котором герои молча наблюдают за улетающим вертолетом, сопоставляется с немой сценой из гоголевского «Ревизора» и интерпретируется как озадачивающая читателя пауза между уходящей эпохой героического самопожертвования и наступающей эпохой гуманистического сознания.
А. Стругацкий, Б. Стругацкий, научная фантастика, социальная аллегория, советская литература, этическая дилемма
Короткий адрес: https://sciup.org/148331916
IDR: 148331916 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-103-65-74
Текст научной статьи «Шесть спичек» А. и Б. Стругацких: поэтика рассказа как зеркало идеологии
EDN: IKNIAY
Автор выражает благодарность Джалилу Мустафину, идейному вдохновителю этой статьи
Введение. Рассказ «Шесть спичек», написанный братьями Стругацкими в конце 1950-х гг. – на рубеже «оттепели» и нового этапа развития советской научной фантастики – является не только образцом жанрового мастерства, но и значимым культурным текстом, запечатлевшим дух своего времени. В этот период в СССР происходили важные социальные, научные и идеологические перемены: рос интерес к науке и технологиям, пересматривалась роль индивидуальности в условиях коллективистской идеологии, обострялась дискуссия о моральной ответственности ученого.
Цель настоящего исследования – выяснить, как социально-политические установки конца 1950-х гг. отразились на поэтике раннего рассказа Стругацких.
Анализ рассказа «Шесть спичек» в историко-культурном контексте позволит проследить, как авторы, работая в рамках научной фантастики, реагировали на актуальные вызовы времени. Актуальность исследования обусловлена необходимостью понимания взаимосвязи литературного произведения и исторического контекста его создания. Изучение небольшого рассказа как продукта эпохи способствует раскрытию механизмов взаимодействия литературы и идеологии и демонстрирует, как даже в жанре научной фантастики могут выражаться глубокие философские и социальные размышления, характерные для определенного исторического периода.
История вопроса. Исследования, основанные на анализе текстов, редакторской практики и рецепции, показывают: литература не существует в вакууме, а формируется под влиянием идеологии, цензуры, интеллектуальной атмосферы и исторических ожиданий. Творчество братьев Стругацких – пример того, как литературные произведения становятся не просто художественными текстами, но и глубоким отражением социально-политических условий, в которых они были порождены.
Одной из первых работ, показывающих, как органично сочинения Стругацких вплетены в контекст советской истории – от «оттепели» до «застоя» и «перестройки», является монография польского исследователя фантастики В. Кайтоха, который сделал попытку всестороннего осмысления творчества Стругацких в связи с политической историей СССР второй половины XX в., проанализировал этические конфликты в произведениях, сопоставил образы вымышленных персонажей с личностями авторов и продемонстрировал, как тексты писателей-фантастов отражают идеологическую шаблонность и тоталитарные черты советской системы [Kajtoch W.]. В отечественном литературоведении взаимосвязь художественного вымысла у братьев Стругацких с идеологическими установками эпохи изучала А.В. Кузнецова, отметившая, что их «тексты <…> – результат сложного взаимодействия авторского замысла и редакторской работы, которая, в свою очередь, во многом зависела от общественной и политической конъюнктуры» [Кузнецова А.В., с. 8]. Буквально это означает, что художественное произведение выражает не только авторскую позицию, но и несет на себе отпечаток системы, в которой оно создавалось, а различия между первоначальным замыслом и опубликованной версией обусловлены совокупностью вмешательств со стороны редакторов, критиков и цензуры – что свидетельствует об изменчивой степени свободы слова в разные периоды. Сам процесс написания текста превращается, таким образом, в исторический документ, фиксирующий колебания редакторской бдительности, то усиливавшейся, то ослабевавшей в зависимости от времени.
Другой исследователь, Э.В. Бардасова, справедливо замечает, что эстетический идеал писателей-фантастов – не абстрактное понятие, а тонкий художественный инструмент познания смысла человеческого предназначения и реальности, и что у Стругацких этот идеал неразрывно связан с актуальными социальными проблемами [Бардасова Э.В.]. В 1960-е гг. идеал строился вокруг поиска справедливого социального устройства, в котором человек мог бы раскрыться как личность. Используя форму научной фантастики, авторы находили способы обойти цензуру, говоря о власти, свободе и морали через аллегории и утопии. Их произведения – не просто прогнозы будущего, а «мысленные эксперименты над реальностью» [Неронова И.В., с. 7], в которых «предполагаемые политические обстоятельства» помогают читателю осмыслить собственную действительность [Черняховская Ю.С., с. 16].
В свою очередь американская исследовательница И. Хауэлл также отмечает, что творчество братьев Стругацких – убедительное доказательство того, что великое художественное произведение не может быть оторвано от своей эпохи и формируется под давлением политических и идеологических условий, выражает доминирующие идеалы и страхи времени и становится формой сопротивления, используя метафору, аллегорию и интертекстуальность для передачи запретных смыслов [Howell Y.H.]1.
И.В. Неронова справедливо определяет авторский текст как своего рода «набор инструкций для читателя, согласно которому направляется реконструкция мира» [Неронова И.В., с. 32] и, говоря о ранних произведениях Стругацких, отмечает, что они, как и вся научная фантастика конца 1950-х – начала 1960-х, преимущественно «утопичные» [Неронова И.В., с. 50]. Об том же пишет и А.В. Фролов, изучавший периодизацию творчества писателей-фантастов. Рассматривая ранний период, исследователь замечает, что каждый текст того времени «имеет положительную развязку», демонстрирует «веру в человечество» и его способность к прогрессу [Фролов А.В., с. 191]. Представляется, что это прямое отражение духа «оттепели», со свойственной ему верой в науку и светлое будущее.
Рассказ «Шесть спичек», написанный в конце 1950-х гг., – одно из самых известных произведений раннего периода творчества братьев Стругацких. Он стал важным этапом в формировании их авторского стиля и примером того, как в рамках короткого жанра можно раскрыть глубокую философско-этическую проблему.
Методы исследования. Основой изучения рассказа в данной работе стал метод медленного чтения, благодаря которому последовательно рассмотрим ключевые моменты произведения с опорой на другие методы – культурологический, сравнительно-исторический, социально-исторический и контекстуальный.
Результаты исследования. Почему рассказ называется «Шесть спичек»?
Как гласит легенда, сформулированная Б. Стругацким, идея рассказа пришла ему на ум еще в 1955 г., а в июне 1958 г. А. Стругацкий предложил брату нечто идейно схожее: «…Какое-нибудь животное после воздействия абвгдеж-лучами ведет себя очень странно – видит за стенами, за углом и т. д. Короче, оно приобретает свойство “видеть” в четвертом измерении. И человек, чтобы проверить это, подвергает такой обработке и свой собственный мозг. И тоже начинает видеть “за углом”. Смелый <…> эксперимент, <…>, героизм советского ученого, руководящая роль и пр.» [Стругацкий А., 2000, с. 656].
Первоначально произведению предполагалось дать простое и незамысловатое название – «За углом». Затем, когда был готов черновой вариант, название ему дали другое – «Восьмой за последние полгода». Однако в период его подготовки к публикации в журнале «Знание – сила» [Стругацкий А., 1959] название вновь было изменено – и с тех пор уже приобрело окончательный вид: «Шесть спичек», а через год с таким же названием у Стругацких вышел авторский сборник [Стругацкий А., 1960].
Забегая вперед, ответим на этот вопрос так: «Шесть спичек» – это символическая метафора, вмещающая в себя множество смыслов. Обозначим эти смыслы по порядку.
Во-первых, название «Шесть спичек» более универсально и понятно, чем предлагавшиеся до него «За углом» или «Восьмой за последние полгода».
Во-вторых, оно характеризуется фабульной точностью рассказа: именно шесть спичек стали причиной неудачи героя рассказа Андрея Комлина. Представляется интересным, что этот герой в рассказе как будто бы обездвижен и обезмолвлен. Все его действия и слова остаются «за кадром» основного повествования, пока перед нами, уже в конце рассказа, не оказываются фрагменты его дневника. Комлин предстает в рассказе как объект исследования в прямом и переносном смыслах: на нем ставится эксперимент, но автор этого эксперимента – он сам. Это напрямую связано с вопросом, поставленным эпохой оттепели: «Человек – объект или субъект истории?» Комлин – единственный персонаж, находящийся на границе миров: он одновременно как бы и жив и мертв, говорит и молчит, действует и покоится, и он же – объект и субъект эксперимента и самого рассказа о нем.
В-третьих, название рассказа напрямую связано с основным вопросом эпохи оттепели о цене человеческой жизни. «Шесть спичек» в контексте произведения – это цена человеческой жизни. Здесь можем вспомнить, что установленная цена на коробок спичек в то время – одна копейка. Таким образом, спички в рассказе служат своего рода валютой: советский коробок, как известно, был полностью набит спичками, а стоимость шести спичек, получается, много меньше одной копейки. И вот это меньшее в контексте рассказа уравнивается с ценой человеческой жизни: Комлин надорвался и едва не умер всего из-за каких-то шести спичек.
Как видим, название рассказа указывает на трагический парадокс: с одной стороны, жизнь уходит ради малого, но с другой – именно это малое становится точкой прорыва, движением вперед, ради чего и существует наука. Но стоят ли научные достижения этих человеческих жизней, этих «восьми за последние полгода»? Важно, что вопрос этот ставится в конце 1950-х, а не в 1930-е – 1940-е, «восемь» для которых – число не впечатляющее.
В-четвертых, важную роль в названии рассказа играет христианская символика: шесть спичек соотносятся здесь с библейскими шестью днями творения. Отметим, что вторая половина 1950-х – не просто время «оттепели», а время, когда в сознании советского общества усиливались религиозные тенденции. (Достаточно вспомнить, куйбышевскую городскую легенду о стоянии Зои (Карнауховой), зародившуюся зимой 1956 г. В местной прессе до сих пор пишут о том, как «после “Стояния Зои” в самарских церквях прибавилось прихожан, а из желающих креститься выстраивались очереди»2). Согласно этой логике, Комлин, проводящий эксперименты, словно замещает фигуру Бога: он создает новый миропорядок, но в этом акте не может завершить сам процесс творения – трудно быть Богом, ведь Комлин лишь человек – и потому терпит крах. Седьмой спички, отсылающей к седьмому дню, венчающему акт творения мира, здесь, в отличие от библейской истории, нет: человек не равен Богу и ограничен в своих возможностях.
Как устроена система персонажей в рассказе? Рассказ построен вокруг двух ключевых дуэтов персонажей, между которыми разворачивается основной конфликт повествования. Другие персонажи никакой роли в сюжете не играют и упоминаются лишь эпизодически. Персонажи попарно противопоставлены друг другу и дополняют друг друга, создавая сложную систему смысловых связей.
Комлин и Рыбников: герой-испытатель и хранитель этических норм
Одну пару образуют Комлин (исследователь, увлекающийся опасными экспериментами, стремящийся к научному прорыву) и Рыбников (инспектор Управления по охране труда, представитель власти).
Рассказ начинается с того, что инспектор Рыбников прилетает на вертолете в Центральный институт мозга к профессору Леману, чтобы разузнать, что же произошло с Андреем Андреевичем Комлиным, пострадавшим в результате какого несчастного случая.
Комлин – ученый, полностью отдавший себя науке. Его имя, удвоенное отчеством (Андрей Андреевич), может быть интерпретировано как символ преемственности, силы рода и непрерывности. Фамилия же его содержит скрытую игру слов и может быть прочитана как «ком(б)лин», что напоминает известное фразеологическое выражение – «Первый блин комом». Это указывает на неудачный исход его экспериментов, завершившихся тяжелым нервным истощением и частичной потерей памяти. Таким образом, он буквально «скомкан» своими притязаниями на сверхчеловеческий статус.
Рыбников расследует обстоятельства, предшествующие инциденту с ученым. Обратим внимание, что инспектор – единственный персонаж, имя которого в рассказе не названо. Он выступает как антагонист научного фанатизма. Его фамилия ассоциируется с рыбой – существом, свободно плавающим в своей среде. Это образ профессионала, который хорошо разбирается в своих обязанностях. Однако, как выясняется позже (в разговоре с Горчинским), Рыбников не просто чиновник, а человек, имеющий отношение к науке: он специалист по радиооптике, то есть тоже ученый: «Все дело в том, что я не специалист по центральной нервной системе. Я специалист по радиооптике»3. Таким образом, он и Горчинский принадлежат к одному кругу, что усиливает драматургию их диалога.
В контексте советской действительности 1950-х гг. слова Рыбникова о ценности человеческой жизни звучат необычно. Он выступает как представитель нового типа государственного деятеля, для которого защита человека становится важнее героических подвигов во имя науки.
Леман и Горчинский: рациональное и сакральное
Другую пару персонажей образуют профессор Леман (директор Центрального института мозга, символизирующий рациональный подход и материалистическую позицию) и Горчинский («личный ассистент» Комлина, олицетворяющий природное, сакральное, почти мифическое начало).
Их имена, отчества, фамилии и должности также важны.
Профессора Лемана зовут Иосиф («тот, кого обеспечивает Бог») Петрович (буквально: «каменный»). Он защищает своих подопечных. Фамилия у него не менее говорящая: она может быть переведена с латыни как «землевладелец» (le-mann), что символизирует привязанность героя к земному, материальному.
Горчинский – ассистент (а профессор и ассистент, как мы знаем, противопоставлены по должностям как «большее и меньшее»), его имя связано, с одной стороны, с сенсорным качеством химической природы (горечью) и – с другой – физическим свойством (горючестью). В этом контексте фраза профессора Лемана об инспекторе Рыбникове – «Все ясно, как шоколад» – получает дополнительное смысловое звучание.
Имя и отчество Горчинского – Александр («защитник людей», «оберегающий мужей») Борисович («борец», «воин», «защитник»), поэтому функция читателю понятна сразу: он защищает дело науки и – как «личный ассистент» Комлина – защищает его лично. Внешность ассистента описана как «громадная фигура в клетчатой рубахе» и напоминает образ лешего – охранителя территории. Горчинский служит не только помощником Комлина, но и хранителем его тайны, что делает его фигурой почти мифического масштаба: «На пороге появилась громадная фигура в клетчатой рубахе с засу- ченными рукавами. Над могучими плечами возвышалась могучая шея, увенчанная головой, заросшей густыми черными волосами, сквозь которые, однако, просвечивала маленькая плешь (или даже две плеши, как показалось инспектору), – фигура двигалась в кабинет спиной». Он, как и леший, ходит задом наперед, пятится. В конце рассказа он опознает Рыбникова по хромоте, вспоминая одну нашумевшую в ученом мире историю, и понимает, что инспектор – это тот самый физик, засветившийся в скандальной по своей мужественности героической истории. Хромота Рыбникова в какой-то мере ассоциативно связывает его с топосом леса, но если Горчинский – леший, то Рыбников – сатир Пан (от др.-греч. «пасти») – оказывается блюстителем, пастырем, то есть буквально «пасет человеков» в среде ученых.
Леман и Горчинский оба служат делу науки и противостоят инспектору Рыбникову, который, на первый взгляд, является чужаком в их «храме науки» (позже реплика инспектора о радиооптике снимает их противостояние и показывает, что все они приобщены к единому пространству науки, единой территории, то есть единой жизни на земле. Примечательно также, что из внешности инспектора в произведении упоминаются только глаза, и, судя по ним, Рыбников противостоит Горчинскому: глаза инспектора – светлые, широко расставленные, все время что-то вопрошающие, в то время как глаза Горчинского в сцене встречи двух этих персонажей описаны как «серые» и «недобрые».
Почему место действия – Центральный институт мозга? Как уже было отмечено выше, Центральный институт мозга – это «храм науки». Все события рассказа происходят в рамках этого замкнутого пространства, где сотрудники посвящают себя разгадке великой тайны – возможностям человеческого сознания и организма. Некоторые из персонажей (в частности, Комлин и Горчинский) живут наукой полностью, жертвуя ради исследований личной жизнью. Поведение и образ жизни Комлина напоминают черты религиозного подвижничества. Например, он проводит несколько дней в режиме самоизоляции, описываемом таким образом: «Комлин <…> заперся в комнате, где был установлен нейтринный генератор, и занялся, как он объявил, подготовкой серии предварительных опытов. Это продолжалось несколько дней. Затем Комлин неожиданно покинул свою келью…» Этот эпизод усиливает метафору научного служения как формы духовной практики. Кроме того, Комлин обрился наголо и появился в черной профессорской шапочке – деталь, которая может быть интерпретирована как намек на монашеский постриг. Такой внешний образ делает его похожим на монаха, принесшего обет верности науке.
Место, где разворачиваются эти события, – не только фон, на котором происходит история. В Центральном институте мозга, как и в любом храме, есть свои священные тексты (научные работы), обряды (эксперименты), жертвы (здоровье ученых), есть даже и своя иерархия: от лаборанта до директора, от ассистента до профессора. В этом смысле институт можно рассматривать как сакральное пространство, где происходит постоянное обращение к высшим истинам. Особое внимание в рассказе уделяется самопожертвованию во имя науки.
Одним из центральных конфликтов рассказа является противостояние между необходимостью научного прогресса и ценностью человеческой жизни. С одной стороны, наука требует жертв, и герои готовы приносить в жертву себя – свое здоровое и свой разум. С другой стороны, постоянно ставится вопрос о том, стоит ли платить науке такую цену?
Комлин, как и другие сотрудники института, живет исключительно наукой. Его рабочий график выходит за рамки «нормального» расписания, которым живет любой среднестатистический человек, что лишает его возможности вести полноценную жизнь вне профессиональной деятельности: герой полностью поглощен поиском истины.
Почему главный герой экспериментирует с памятью? Память – важнейший концепт эпохи «оттепели», давшей возможность для публикации «окопной» правды. Нужно учесть, что ровесниками «Шести спичек» были произведения писателей-фронтовиков и что в это время крах сталинизма обнажал вопросы преемственности поколений. Вспомним хотя бы мотив передачи эстафеты старшего брата – младшему в «Звездном билете» В. Аксенова (1961). Много позже Р. Рождественский даст точную характеристику своему поколению в одном из стихотворений, впоследствии ставшем популярной песней: «Мы память, мы память, / Мы звездная память друг друга» («Эхо любви», 1977).
Этот концепт памяти у Стругацких лежит в основе сюжета «Шести спичек». Однако следует еще отметить такой факт: идея стимулирования экспериментальным путем человеческих возможностей и, в частности, памяти, проникает во второй половине 1950-х в фантастическую литературу по всему миру: «Конец Вечности» А. Азимова (1955), «Город и звезды» А. Кларка (1956), «Цветы для Элджернона» Д. Киза (1959) и др.
Поначалу, после первых экспериментов, Комлин показывает невиданные способности:
«Месяц спустя после этого происшествия младший научный сотрудник Веденеев встретил Комли-на вечером в уединенной аллее Голубого парка. Начальник лаборатории сидел на скамейке с толстой, потрепанной книгой на коленях и что-то бормотал вполголоса, уставившись прямо перед собой. Веденеев поздоровался и присел рядом. Комлин сейчас же перестал бормотать и повернулся к нему, странно вытягивая шею. Глаза у него были “какие-то заплесневелые”, и Веденееву захотелось немедленно удалиться. Но уходить так сразу было неудобно, поэтому Веденеев спросил:
— Читаете, Андрей Андреевич?
— Читаю, - сказал Комлин. - Ши Найань, “Речные заводи”. Очень интересно. Вот, например...
Веденеев по молодости лет знаком с китайской классикой почти не был и почувствовал себя еще более неловко, но Комлин вдруг захлопнул книгу, сунул ее Веденееву и попросил раскрыть наугад. Слегка смущенный, Веденеев повиновался. Комлин взглянул на страницу (“один раз, мельком”), кивнул и сказал:
— Следите по тексту.».
Упомянутый в рассказе китайский роман «Речные заводи» - один из четырех классических китайских романов. Он восхваляет героическую борьбу крестьян против правящей элиты. В финале произведения бунтующие крестьяне попадают в плен, но получают амнистию от правителей. Первый перевод этого романа на русский язык был осуществлен А.П. Рогачевым и издан в 1955 г. [Ши Най-Ань]. Поскольку амнистия также была одним из концептов хрущевской «оттепели» и к моменту создания рассказа в СССР состоялись три амнистии - включение в фантастический сюжет классического китайского романа понятно.
Зачем ученый показывает фокусы? В одном из эпизодов рассказа Комлин показывает сотрудницам Центрального института мозга фокусы. Предложение, которым открывается эта сцена, сформулировано так: «Но наиболее странными казались события, имевшие место буквально за несколько часов до несчастья». Такая формулировка сразу дает читателю понять, что далее речь пойдет о чем-то из ряда вон выходящем, о том, чего ранее Комлин никогда не делал. Следующее предложение подтверждает это читательское предположение: «В тот вечер Комлин - веселый, остроумный, как никогда - показывал фокусы» (выделено мной. - А.К .).
То, что для ученого - раскрытая алгебра, для других - фокусы. И эти фокусы Комлин показывает, что представляется определенным смысловым акцентом, трем девушкам. Таким образом, этот фрагмент текста вскрывает сказочный мотив - о трех девицах. В фольклоре они часто выступают как персонажи, обусловливающие главному герою испытания: через них сказочных герой получает важные знания для инициации и последующего взросления. Иногда эти девицы олицетворяют судьбу, силы природы или божественную волю. В данном случае три сотрудницы института становятся свидетелями необычных способностей, демонстрируемых ученым, которые он сам называет результатом воздействия нейтринного генератора. Девушки, сами того не осознавая, играют роль медиумов между человеческим и сверхъестественным. Говоря о том, что герой показывает «фокусы», Стругацкие изображают науку как чудо, подчеркивают разрыв между научным знанием и его восприятием непосвященными. Важно отметить, что авторский текст придает этим событиям почти волшебное звучание, усиливая образ Комлина как фигуры, стоящей на границе миров - между наукой и мистикой.
Зачем авторы меняют форму повествования, предъявляя читателю дневник Комлина? Завершающая часть рассказа содержит глубокую символику. После инцидента с Комлиным герои находят его дневник, в котором он описывает проведенные эксперименты с нейтринным генератором. На последней странице упоминается облучение собаки по кличке Генька.
Этот эпизод допускает несколько интерпретаций.
В-первых, это отсылка к работам И.П. Павлова. Поскольку работы физиолога были широко известны в научных кругах того времени, можно предположить, что Стругацкие имели в виду эксперименты с условными рефлексами.
Во-вторых, это аллюзия на повесть «Собачье сердце» М.А. Булгакова. Хотя сам текст был запрещен в СССР до конца 1980-х гг., вопрос о том, могли ли авторы читать ее в самиздате в конце 1950-х, остается открытым. По крайней мере, как показывает И. Хауэлл, позднее у Стругацких нередко встречаются отсылки к запрещенной литературе, в частности, к произведениям М. Булгакова, что является своего рода «культурным подмигиванием» своим [Howell Y.H]. Здесь еще важно отметить, что имя собаки – Генька – звучит почти как прозвище – и это создает эффект приземленности даже самого высокого научного эксперимента. Таким образом обыденность как бы становится в один ряд с великой тайной.
Кульминация внутреннего конфликта между стремлением к знанию и физическими возможностями человека выражается в следующей записи Комлина: «Это страшно утомляет. Раскалывается голова. Иногда могу работать только под непрерывным облучением и к концу весь покрываюсь потом. Не надорваться бы. Сегодня работаю со спичками». Здесь же раскрывается центральная дилемма произведения: стоит ли жизнь ради малого, почти что ничтожного? Может ли человеческое тело выдержать сверхъестественное воздействие разума?
Усилия Комлина заканчиваются физическим истощением. Эти два предложения в его дневнике – «Не надорваться бы. Сегодня работаю со спичками» – становятся ключевой метафорой всей истории. Мы помним, что, согласно Книге Бытия, после божественных деяний на шестой день (когда Бог наполнил мир живыми существами) следуют слова: «И это хорошо» (Быт: 1:31). Для Комлина же его деяния обернулись крахом – все стало плохо .
Таким образом, Стругацкие в финале рассказа поставили перед читателем вопрос ребром: может ли человек быть творцом или он ограничен своей природой, а любые попытки выйти за ее пределы обречены на провал?
Рыбников - «герой нашего времени»? Инспектор Рыбников, несмотря на свою официальную роль, высказывает идеи о том, что человек является высшей ценностью. Эта позиция нетипична для советской действительности начала 1950-х гг., но к концу 1950-х, когда установки сталинизма отступают и политическая повестка меняется, на сцену выходит новый тип государственного деятеля, ориентированного на защиту человека. Одним из самых важных эпизодов рассказа является монолог Рыбникова, в котором тот открыто осуждает самопожертвование ученых: «Славное время, хорошее время! Четвертое поколение коммунистов – смелые, самоотверженные люди. Они по-прежнему неспособны беречь себя, напротив, они с каждым годом все смелее идут в огонь <…> Не по трупам своих лучших представителей, а по следам могучих машин и точнейших приборов должно идти человечество к господству над природой…».
Эта речь в контексте эпохи «оттепели» демонстрирует смещение акцентов: героизм больше не воспринимается как норма, а ценность жизни начинает превалировать над идеей самопожертвования во имя науки. Рыбников подчеркивает, что настоящий прогресс возможен только через сохранение жизни: «И не только потому, что живые могут сделать много больше, чем сделали мертвые, но и потому, что самое драгоценное в мире – это Человек». Таким образом, инспектор представляет собой новый тип государственного деятеля, ориентированного на защиту личности и утверждение гуманистических ценностей.
Почему в финале рассказа - немая сцена?
Финал рассказа «Шесть спичек» несет в себе особую символическую нагрузку. После того как дневник Комлина прочитан, а инспектор Рыбников улетает, Леман и Горчинский остаются одни. Они наблюдают за тем, как вертолет с инспектором скрывается в небе: «Леман и Горчинский смотрят на предвечернее небо, где только что скрылся вертолет с инспектором Рыбниковым…».
Этот эпизод напоминает знаменитую немую сцену гоголевской комедии «Ревизор», где действие останавливается, герои замирают, но внутреннее напряжение сохраняется. Такое авторское решение в рассказе Стругацких придает финалу особую выразительность – здесь так же, как и у Гоголя, повисает неловкая пауза между прошлым и будущим, между старыми идеалами научного героизма и новыми установками гуманистического подхода.
Ни один из персонажей не произносит здесь слов. Это молчание может быть интерпретировано по-разному:
– для Горчинского – это скорбь по утраченному идеалу: он потерял своего учителя, друга и единомышленника;
– для Лемана – это признание необходимости изменений: даже если он не разделяет позицию Рыбникова, он понимает, что прежние нормы больше не работают;
– для читателя – это вопрос без ответа: действительно ли наука теперь должна отказаться от жертв ради прогресса?
Стругацкие не делают однозначного вывода. Вместо этого они предлагают читателю самостоятельно осмыслить противостояние между этикой и наукой, между человеческими возможностями и божественным промыслом.
Выводы. Рассказ «Шесть спичек» ставит перед читателем важные философско-этические вопросы, которые остаются актуальными и сегодня:
– что важнее: научный прогресс или жизнь человека?
– должен ли ученый жертвовать собой ради открытия?
– каковы границы этики в науке?
В произведении нет однозначно положительных или отрицательных персонажей. Каждый из них следует своей истине, что делает конфликт особенно драматичным. Авторы через систему символов и образов показывают, что наука, как и религия, может стать культом, требующим жертв, но человек не обладает божественной силой и потому не вправе рисковать жизнью ради ничтожного.
Комлин, пытаясь поднять шесть спичек, стал жертвой собственного стремления к истине. Его трагедия – не просто личная драма, а метафора всей системы ценностей советской науки 1950-х гг. Рыбников же, выступающий как представитель нового времени, демонстрирует смещение акцентов: человек становится высшей ценностью, и любые достижения должны быть соизмеримы с его достоинством.
Стругацкие не дают готовых ответов, а только ставят вопросы, которые для каждого читателя решаются по-своему.
В контексте постоянно происходящих историко-культурных изменений этот рассказ может рассматриваться исследователями как своеобразный «культурный барометр». «Шесть спичек» Стругацких – это предложение читателям осмыслить дилемму между прогрессом и жизнью, между наукой и нравственностью. Предположительно именно в этом кроется одна из причин долгой литературной жизни рассказа.