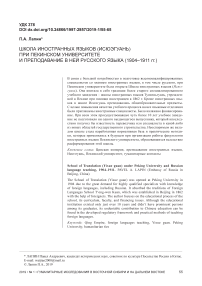Школа иностранных языков (исюэгуань) при пекинском университете и преподавание в ней русского языка (1904-1911 гг.)
Автор: Лапин Павел Андреевич
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 1 (47), 2019 года.
Бесплатный доступ
В связи с большой потребностью в подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием иностранных языков, в том числе русского, при Пекинском университете была открыта Школа иностранных языков (Исюэ-гуань). Она впитала в себя традиции более старого специализированного учебного заведения - школы иностранных языков Тунвэньгуань, учрежденной в Пекине при помощи иностранцев в 1862 г. Кроме иностранных языков в школе Исюэгуань преподавались общеобразовательные предметы. С целью повышения качества учебного процесса на все языковые отделения были приглашены иностранные специалисты. Было налажено финансирование. При всем этом просуществовавшее чуть более 10 лет учебное заведение не подготовило ни одного выдающегося выпускника, который впоследствии получил бы известность переводчика или специалиста в какой-либо из новых областей государственного строительства. Неоспоримым же вкладом школы стала наработанная нормативная база и практические методики, которые применялись в будущем при организации работы факультетов иностранных языков Пекинского университета, образовавшихся вследствие расформирования этой школы.
Цинская империя, преподавание иностранных языков, исюэгуань, пекинский университет, гуманитарные контакты
Короткий адрес: https://sciup.org/170175889
IDR: 170175889 | УДК: 378 | DOI: 10.24866/1997-2857/2019-1/55-65
Текст научной статьи Школа иностранных языков (исюэгуань) при пекинском университете и преподавание в ней русского языка (1904-1911 гг.)
Переводческое дело в Китае являлось важным содержанием работы государственного аппарата и образовательных учреждений. Тема подготовки специалистов-языковедов становилась еще более актуальной по мере втягивания Цинской империи во второй половине ХIХ в. в новую систему колониальных международных отношений. Маньчжурская администрация была не в силах противостоять активной военно-дипломатической и торгово-экономической политике мировых держав. С 1860-х гг. в Китае были запущены первые реформы – Движение «за усвоение заморских дел» ( янъу юньдун , 洋 务运动 ). Ставилась задача изучения передового иностранного опыта, его адаптации для нужд империи и постепенного внедрения в различные сферы хозяйства, что на первых этапах, в частности, предполагало организацию перевода больших объемов иностранной научно-технической литературы и, как следствие, подготовку высококвалифицированных специалистов со знанием иностранных языков.
Ранние реформы, однако, не принесли ожидаемых результатов, в том числе по причине столкновения интересов прогрессистов и консервативно настроенных групп высших сановников, а также слабого финансирования1. Такая ситуация с подготовкой специалистов сохранилась вплоть до конца ХIХ в. «Главные причины постигших в недавние годы китайскую империю невзгод, – подытоживал настроения в среде китайской интеллигенции в сентябре 1898 г. в письме министру иностранных дел М.Н. Муравьеву исполняющий обязанности поверенного в делах России в Китае А.И. Павлов, – заключались в неизмеримом превосходстве западных государств в смысле научного образования и практических познаний и в полной несостоятельности существовавшей до сих пор китай- ской системы философско-схоластического образования, положенной в основу всего государственного строя Китая» (Архив внешней политики Российской Империи, далее – АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 838. Л. 2–2об.).
В 1898 г. группа прогрессистов во главе с молодым и энергичным императором Гуансюем (1875–1908) инициировала серию преобразований, получивших название «Сто дней реформ». В том же году как результат усилий двора по модернизации системы образования было учреждено первое в истории Китая высшее учебное заведение – Пекинский университет ( Цзин-ши дасюэтан , 京师大学堂 , с 1912 г. – 北京大 学 ). На должность ректора нового университета планировалось назначить бывшего китайского посланника в Санкт-Петербурге, а в то время занимавшего должность председателя Общества Китайской восточной железной дороги Сюй Цзинчэна2 (АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 838. Л. 8об.–9). Однако, не успев открыться в декабре 1898 г., в июле 1900 г. учебное заведение было закрыто по причине отсутствия средств на его содержание и малого количества учащихся. Работа университета была восстановлена в начале 1902 г.3. Разовое финансирование в размере 212 тыс. лянов серебра4 было открыто по линии Русско-китайского банка в часть дивидендов «на вложенный в него китайским правительством… капитал в пять миллионов лян» (АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 838. Л. 8).
С учетом требований времени в новом университете особое внимание уделялось преподаванию иностранных языков. Идея подготовки специалистов этой категории была заложена уже в первый устав учебного заведения 1898 г. В документе говорилось о необходимости организовать преподавание английского, француз- ского, русского, немецкого и японского языков. Предполагалось, что каждый учащийся университета будет изучать один из иностранных языков [22, с. 438]. При этом, если для обучения английскому языку планировалось пригласить 12 преподавателей-иностранцев, то для преподавания русского – всего одного [19, с. 55].
Назначенный в январе 1902 г. ректором университета видный прогрессист Чжан Байси ( 张 百熙 , 1847–1907)5 предложил комплекс мер по улучшению работы учебного заведения, в том числе в части содержания образования6. Во исполнение положений еще прежнего устава учебного заведения в январе 1902 г. было принято решение включить в состав университета созданную еще в 1862 г. в столице школу иностранных языков Тунвэньгуань ( 同文馆 ), в которой велось преподавание английского, французского, немецкого, русского (с 1863 г.) и японского языков [12, с. 94].
В связи с ограниченным финансированием отдельное подразделение учреждено не было и по принятому летом 1902 г. новому уставу университета было решено «на подготовительном отделении ( 预备科 ) и отделении ускоренной подготовки ( 速成科 ) организовать преподавание пяти иностранных языков – английского, французского, русского, немецкого и японского с приглашением иностранных учителей» [21, с. 244].
Вскоре вопросы финансирования и найма преподавателей были решены и в начале 1904 г. в рамках университета появилось специальное подразделение по преподаванию иностранных языков – Исюэгуань ( 译学馆 , досл. «Школа по изучению перевода»). В январе 1904 г. был принят первый устав школы [21, с. 435–442]. Школа создавалась с целью «обучения [слушателей] иностранным языкам в интересах перевода документов с иностранного языка на китайский, а также [подготовки] переводчиков для внешних дел». Сохранялись прежние отделения: «Открыть по одному отделению английского, французского, русского, немецкого и японского языков. Каждому слушателю изучать один язык, прилагать усилия и не лениться» [21, с. 435].
Работа по набору учащихся началась еще до официального открытия школы. Предполагалось зачислить 120 слушателей (именно такое количество учащихся потом и будет зафиксировано в уставе школы) [21, с. 438]. Часть мест была заполнена учащимися, переведенными с подготовительного отделения и отделения ускоренной подготовки (видимо, не более 10 человек), оставшуюся часть планировалось укомплектовать путем проведения всеобщих экзаменов. В апреле 1903 г. в центральной газете «Дагунбао» (大公报)7 было размещено объявление о наборе абитуриентов. Заявку на участие в экзаменах подало «около тысячи желавших учиться», среди которых было немало «детей вельмож» [5, с. 46].
Вступительные экзамены делились на два тура: «в ходе первого – написать сочинение на общую этико-политическую тему, ответить на шесть вопросов по истории Китая и зарубежных государств и еще на три вопроса по арифметике. На втором туре — шесть вопросов по географии Китая и зарубежных государств, три вопроса по физике» (Архив Пекинского университета, далее – АПУ. JS0000145/1. Л. 2). По итогам первого тура были отобраны 197 абитуриентов, которым было предложено участвовать во втором туре. Однако, несмотря на значительное количество претендентов на обучение в школе при университете, их уровень знаний был весьма посредственным. По итогам вступительных испытаний в школу приняли не более 70 абитуриентов. Было объявлено о дополнительном наборе учащихся, «предполагалось набрать еще 20 учащихся в возрасте от 15 до 20 лет из числа детей военнослужащих» [1, с. 174]. Соответствующее извещение было размещено в январе 1904 г. в той же газете «Дагунбао». Из всех заявленных абитуриентов экзамены сдали лишь 12, при этом для данной категории кандидатов требования были совсем низкие – они должны были всего лишь подтвердить хорошее знание китайского языка и не иметь вредных привычек, таких как курение опиума. Все они были зачислены, но, в отличие от принятых ранее учащихся, на платную основу – 55 юаней серебром за один семестр. К началу 1904 г. первый курс был укомплектован учащимися лишь частично (всего 92 человека), но занятия было решено начинать [21, с. 438].
В целом высокий интерес молодых китайских подданных к поступлению в Исюэгуань объяснялся в том числе тем, что уже с 1903 г. в империи шла реформа по упразднению системы сдачи традиционных государственных экзаменов кэцзюй (полностью отмечена в 1905 г.), и многие представители думающей молодежи искали возможности обучения и прежде всего –
Издавалась в Тяньцзине.
в новых учебных заведениях, дававших практические навыки и умения.
С 1905 по 1931 гг. администрацией школы и образованной впоследствии ассоциацией выпускников было издано семь серий «Журнала учащихся и выпускников школы Исюэгуань» ( 京师译学馆同学录 ), из которых сегодня доступными для исследователей являются редакция 1905 г. (первая серия)8 и две редакции 1918 и 1925 гг. (пятая и шестая серии) этого документа [15; 14, с. 273–357]9. В настоящее время эти материалы являются весьма ценным и наиболее полным источником по истории Исюэгуань, содержат ценную статистическую информацию, а также данные об учащихся и преподавателях, в том числе иностранных.
За всю историю существования школы туда были приняты более 700 учащихся [5, с. 45]10. При этом полный курс обучения завершили всего 358 человек, большинство из них – 200 выпускников – окончили школу в революционный 1911 г. [14, с. 356]11.
По данным журналов, в ходе первой кампании по приему учащихся в 1903 г. на отделение русского языка были зачислены 13 человек, в
1906 г. – 18, а в 1907 г. – всего 4 [15, с. 23, 38, 40, 42; 14, с. 308–351]. Эти данные, однако, не в полной мере соответствуют информации российского посольства в Пекине, которое в своей депеше в МИД осенью 1907 г. со ссылкой на нашего учителя школы сообщало, что «в течение слишком четырехлетнего существования русского класса (то есть с первого набора в 1903 г. – прим. авт. ) курс проходился одними и теми же лицами, число которых … постепенно уменьшалось и опустилось, наконец, до 11 человек». После переговоров российской миссии с директором школы произошло «увеличение с весны текущего года (1907 г.) числа учеников на 27 человек и, таким образом, в Школе переводчиков имеется ныне два русских класса – один находящийся в школе уже слишком четыре года …, другой же приступивший к занятиям лишь шесть месяцев тому назад» (АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 108–108об.).
Большинство учащихся поступали на отделение русского языка из граничившей в то время с центральной провинцией Чжили провинции Хэбэй (12 человек), а также располагавшейся недалеко от Пекина провинции Шаньдун. Возрастной ценз абитуриентов полностью соответствовал требованиям устава учебного заведения. Самому младшему из принятых, некому уроженцу провинции Чжэцзян по имени Сунь Байин ( 孙百英 ), на момент поступления в школу в 1903 г. было 16 лет, самому старшему по имени Цинь Симин ( 秦锡铭 , поступил в 1903 г.) из провинции Шаньдун – 23 [13, с. 6об., 4об.].
Обращает на себя внимание, что некоторые поступали на русское отделение переводом или отучившись в других школах схожего уровня, в том числе с преподаванием русского языка. Скажем, учащийся Чэнь Пу ( 陈浦 ) ранее прошел курс обучения в Школе русского языка при КВЖД, Чэнь Даянь ( 陈大岩 ) учился в Тяньцзиньской школе русского языка, а Бо Шань ( 柏山 ) четыре года обучался русскому языку в Гуанчжоуской школе иностранных языков Тун-вэньгуань [13, с. 3–3об., 1об.].
Содержание обучения в школе определялось целями этого учебного заведения – подготовка людей со знанием иностранных языков и общей политической ситуации «в интересах разных важных государственных дел» [21, с. 435].
Срок обучения составлял пять лет. Слушатели изучали общеобразовательные предметы и один из иностранных языков. Было разработано довольно сбалансированное урочное распи- сание: в рамках общих курсов преподавали основы китайского этико-философского учения, китайскую и зарубежную литературу, историю и географию, математику, естествознание (физиология, основы гигиены, минералогия, ботаника, зоология), физику, химию, рисование, учащиеся посещали уроки физкультуры. Начиная с третьего курса вводились специальные предметы, такие как основы права, теория переговоров, международные отношения, финансы и педагогика. Общие и специальные курсы читались один-два раза в неделю [21, с. 436–437].
С учетом специфики учебного заведения основное внимание, естественно, уделялось преподаванию иностранных языков. Если на все общие и специальные предметы каждого из курсов выделялось по 20 учебных часов в неделю, то на изучение иностранного языка закладывалось 16 часов. В рамках языковой подготовки на первом курсе учащиеся изучали азбуку, словосочетания, учились письму, на втором и последующих составляли диалоги, изучали грамматику, писали сочинения, на четвертом и пятом курсах вводилось чтение литературы на иностранном языке [21, с. 436–437]12.
Учебные пособия частично разрабатывались школой самостоятельно, на основе китайской базы учебников, но подавляющее большинство обучающих материалов составляли японские переводные образовательные издания13. В историографии не сохранилось информации о том, какими учебниками пользовались при обучении на отделении русского языка. Вполне возможно, что основным пособием был дважды изданный в 1906 г. старшим учителем Школы русского языка при КВЖД Я.Я. Брандтом (англ. J.J. Brandt, кит. 卜郎特, 1869–1946) трехтомный учебник по русскому языку для китайских учащихся «Почин. Опыт учебной хрестоматии для преподавания русского языка в начальных китайских школах» [2, с. 585], а также разработанные самими же преподавателями дидактические пособия.
В административном плане школа формально подчинялась руководству университета, но, как сообщали находившиеся тогда в Пекине россияне, она «одно время была соединена с Пекинским университетом, но уже несколько лет существует самостоятельно, в качестве специальной школы иностранных языков» (АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 108). Учебным заведением руководил директор ( цзяньду , 监督 ), у которого был один заместитель ( цзяоу тидяо , 教 务提调 ). Штатное расписание также дополняли административные и хозяйственные служащие [21, с. 439–440]. За все время существования школы в ней сменились шесть директоров [11, с. 806]. Последним из них с 1909 г. служил хорошо известный в то время русист Шао Хэнц-зюнь (другое чтение – Шао Хэнсюнь, 昭恒浚 , 1870–1951)14.
Администрация школы уделяла большое внимание формированию педагогического коллектива. Для обучения приглашались местные и иностранные преподаватели, при этом местные наставники вели преподавание как общеобразовательных предметов, так и иностранных языков, иностранцы занимались только обучением иностранных языков. С учетом того, что школа имела все же статус языкового гуманитарного заведения, особое значение придавалось качественному преподаванию родного языка: в раз- ное время там служили 12 наставников китайской словесности [11, с. 806]. Среди преподавателей иностранных языков преобладали учителя английского (5 китайских, 3 английских и 2 американских преподавателя) и французского языков (7 китайских и 5 французских учителей) [15, с. 1–10].
На отделении русского языка в общей сложности трудились четверо китайских преподавателей и двое россиян [15, с. 2, 4–6]. Среди китайских преподавателей наиболее известными были Фань Сюйлян ( 范绪良 ), Хао Шуцзи ( 郝树 基 ) и Чэнь Цзяцзюй ( 陈嘉驹 )15. Информация о четвертом преподавателе, Юй Дапэне ( 余大鹏 ), практически отсутствует. Известно лишь, что он был выпускником отделения русского языка Хубэйской школы «самоусиления» ( 湖北自 强学堂 ) [13, с. 2об.]. О деятельности китайских учителей русского языка известно мало. Не исключено, что они рутинно осуществляли свои функции и в соответствии с учебными планами обучали слушателей русскому языку.
Больше оценочной информации сохранилось о российских преподавателях школы. Вскоре после открытия учебного заведения там в течение незначительного времени (не более полугода – с зимы до лета 1904 г.) преподавал выпускник Восточного факультета Санкт-Пе-
15 Эти три учителя были выпускниками разных лет русского отделения пекинской Школы иностранных языков Тунвэньгуань. Чэнь Цзяцзюй поступил на русское отделение школы в 1886 г., Фань Сюй-лян – в 1893 г., по окончании остался там работать в должности ассистента преподавателя [16, с. 30, 32]. В 1896 г. Чэнь Цзяцзюй в числе первых китайских учащихся в истории российско-китайских образовательных связей был направлен в Россию для продолжения обучения в Санкт-Петербургом учительском институте. В 1899 г. в то же учебное заведение был направлен и Хао Шуцзи (Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, далее – ЦГИА СПб. Ф. 412. Оп. 1. Д. 888. Л. 18, 22). Хао Шуцзи показывал достойные результаты в обучении. Характеризуя его навыки в области русского языка, один из российский преподавателей, в частности, отмечал, что читать он стал «довольно свободно», прочитанное понимал и потом пересказывал «довольно хорошо», а разъясненный материал излагал «письменно довольно понятным языком и без грубых ошибок» (ЦГИА СПб. Ф. 412. Оп. 1. Д. 888. Л. 25об.). В 1902 г. Хао Шуцзи был направлен в Горный институт имени Екатерины II для изучения горных наук [10, с. 35]. В 1904 г. он вернулся в Китай [18, с. 163]. Впоследствии (не ранее 1916 г.) Фань Сюйлян и Чэнь Цзяцзюй перешли на работу в МИД [16, с. 30, 32].
тербургского университета Алексей Иванович Иванов (кит. имя: Ифэнгэ, 伊凤阁 ; 1878–1937), находившийся в 1902–1904 гг. в Пекине в научной командировке (подробнее о нем см: [8, с. 264–271])16.
После возвращения А.И. Иванова в Россию в школу в качестве наставника был приглашен другой выпускник Восточного факультета Санкт-Петербургского университета по фамилии Григорьев17. В 1906 г. Григорьев проводил экзамен, темы для которого им были разработаны самостоятельно с учетом специфики учебного заведения и, видимо, предложений администрации учебного заведения18. О его преподавательской деятельности, относящейся к 1906 г., также сообщается в подготовленном российским посольством в Пекине обзорном материале «Данные о школах в собственном Китае, в которых производится преподавание русского языка» (Российский государственный исторический архив, далее – РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 780. Л. 53об.–54).
Григорьев ответственно исполнял свои функции, содействовал повышению качестве работы русского отделения. Он, часто указывая «на равнодушие, проявляемое начальством школы к делу преподавания нашего языка», сообщал в российское посольства, что «русскому преподавателю не давали новых учеников и в течение слишком четырехлетнего существования русского класса (1907 г.) курс проходился одними и теми же лицами» (АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 108). После долгих разъяснений со стороны россиянина, школьное начальство весной 1907 г. распорядилось набрать новый класс с преподаванием русского языка.
В конце октября 1907 г. в школе проводилась аттестация, организованная Ведомством по делам просвещения. Возглавлял проверочные мероприятия лично доверенный Министра просвещения Чжан Чжидуна секретарь Шао Хэнцзюнь, который, как указывалось, с 1909 г. возглавлял это учебное заведение. В каждый из своих приездов Шао Хэнцзюнь особо интересовался работой русского отделения, что «объясняется, конечно, прежде всего личностью экзаменатора, но также и тем значительным интересом, который проявляет к делу преподавания русского языка сановник Чжан Чжидун» (АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 108об.).
Григорьев при каждом удобном случае пытался привлечь внимание представителей образовательного ведомства, посещавших школу, к вопросам преподавания русского языка. В том же октябре 1907 г. посланник в Пекине Д.Д. Покотилов писал в МИД, что «по поручению китайского министерства народного просвещения Григорьев занят ныне составлением соображений об упорядочении и расширении порученного ему дела (преподавание русского языка. – прим. авт. ), причем можно казалось бы рассчитывать, что в дальнейшем преподавание русского языка в Пекинской школе переводчиков будет поставлено нормально и устранится возможность недоразумений, благодаря которым состав русского класса не пополнялся в течение целого ряда лет» (АВП РИ. Ф. 143. Оп. 491. Д. 2042. Л. 108об.).
Российский преподаватель зарекомендовал себя как хороший специалист. За работу школьное начальство выплачивало ему весьма высокое жалованье – 5 тыс. долл. в год19. Это была максимальная ставка, установленная местными властями работавшим в китайских учебных заведениях российским преподавателям (РГИА. Ф. 560. Оп. 28. Д. 780. Л. 53 об.–54).
Степень усвоения знаний проверялась в ходе регулярных аттестаций и экзаменов. Предусматривались месячные (один раз в три месяца), семестровые (один раз в полгода) и выпускные экзамены (по итогам полного пятилетнего курса обучения). От одного до двух раз в месяц проводились аттестации по китайскому языку. Оценки за экзамены проставлялись на самих работах, которые передавались на хранение в Ведомство по делам просвещения.
Слушатели русского отделения, судя по всему, учились неплохо. Например, по итогам второго семестра (зима 1904 г.) среди 7 учащихся, о которых сохранились данные, общий балл девяти учебных дисциплин четырех из них составлял 89–90 (высший; применялась стобалльная система оценок), при этом оценки по русскому языку первых трех20 были 95 и 96 баллов, а четвертого из них, упоминавшегося выше Чэнь Пу ( 陈浦 ), – 100 баллов [4, с. 1–2].
По своему содержанию экзамены были довольно сложными. Скажем, на экзамене по истории ученикам русского отделения предлагалось ответить на вопросы «о причинах строительства россиянами пограничной крепости Албазин» или пояснить, «какие участки российско-китайской границы были согласованы и получили юридическое оформление по результатам подписанного сторонами Кяхтинского договора» (АПУ. JS0000123/1. Л. 33).
Вместе с тем, с учетом специфики учебного заведения главным был экзамен по иностранному языку, который требовал от выпускников не только высокого уровня языковой подготовки, но и демонстрации знаний по самому широкому кругу общественно-политических вопросов. Например, на экзамене осенью 1907 г. учащимся русского отделения было предложено на русском языке ответить на вопрос: «Что такое “натурализация”? История натурализации в Англии. Русский закон о натурализации 10-го февраля 1864 г.» (АПУ. JS0000123/1. Б.л.). А годом ранее слушатели группы « цзя » (1903 г.) на переводном экзамене с третьего на четвертый курс отвечали на следующий вопрос: «Венский конгресс. Какие главные вопросы были решены на нем? Как был решен вопрос об устройстве нового политического порядка в Европе?» (АПУ. JS0000123/1. Л. 85).
Особое внимание уделялось выпускным экзаменам. Учащиеся сдавали экзамены по основным общеобразовательным предметам и изучаемому иностранному языку, оценки за которые проставлялись в аттестат. На основании этих оценок выводился общий балл успеваемости выпускника [25, с. 273]. Выделялось пять разрядов таких общих оценок, начиная с разряда «лучший» (最优等) и заканчивая разрядом «худший» (最下等) [21, с. 439]. По воспоминаниям учащихся, выпускники, сдавшие выпускные эк- замены по первому разряду, в должности старшего делопроизводителя (主事) назначались на вакантные позиции в ведомствах центральной провинции Чжили, округах, а также в провинциальных управлениях портов, открытых для международной торговли; сдавших по второму разряду в должности секретарей Дворцовой канцелярии (内阁中书) направляли для работы в уездах и также международных портах; наконец, сдавшим по третьему разряду присваивали седьмой ранг государственной службы (七品 官) с рекомендациями на нижние должности в местных органах власти [11, с. 807–808].
Информации о том, как сдавали выпускной экзамен учащиеся русского отделения, не сохранилось. Но, судя по данным пятого «Журнала выпускников Исюэгуань» (1918), в котором были зафиксированы места работы некоторых бывших слушателей этого отделения, учились будущие русисты в целом неплохо. И несмотря на то, что каких-либо значительных результатов в карьере никто из них не достиг, некоторые выпускники впоследствии были назначены на должности в центральные министерства и ведомства, местные управления и на новые производства, где имели возможность в полной мере использовать приобретенные в школе общие знания, в том числе знание русского язы-ка21. Трое учащихся школы продолжили обучение в России22.
Школа иностранных языков Исюэгуань просуществовала до 1911 г., когда была расформирована как отдельное учебное учреждение и в качестве факультетов иностранных языков была включена в Пекинский университет23. Так, в старейшем вузе Китая начал свою работу факультет русской литературы ( 俄罗斯文学 门 , с 1919 г. – факультет русского языка, 俄语 系 ), плодотворно функционирующий и по настоящее время. Вместе с тем, несмотря на закрытие школы, ее традиции, подкрепляемые выпускниками, продолжили свое существование. В 1920 г. была учреждена Ассоциация выпускников этой школы ( Цзинши исюэгуань сяо ю хуэй , 京师译学馆校友会 ). В 1958 г. бывшие выпускники учебного заведения составили сборник всех сохранившихся документов, посвященных учащимся и самой школе, который был преподнесен в дар Пекинскому университету в ходе празднования 60-летней годовщины его создания [11, с. 811–812]. Летом 1961 г. на заседании ассоциации был утвержден устав, определивший целью этого объединения «поддержку чувств [выпускников школы] и развитие культуры» [11, с. 812]. О дальнейшей судьбе этой структуры ничего не известно.
Такова была история школы иностранных языков при Пекинском университете. Учебное заведение просуществовало не более десяти лет, было образовано вскоре после появления самого университета, заложив основы преподавания иностранных языков, в том числе русского, в стенах этого уважаемого вуза. С точки зрения организации образовательного процесса школа Исюэгуань была весьма хорошим учебным заведением. По всей империи был организован прием учащихся, местная администрация разработала сбалансированное урочное расписание, где с учетом специфики школы приоритет отдавался преподаванию иностранных языков. Было обеспечено стабильное финансирование, в том числе позволявшее приглашать иностранных наставников, что было в интересах повышения качества преподавания. Российскому преподавателю было назначено максимальное среди других россиян, работавших в китайской системе образования, жалованье.
пускник Тяньцзиньской школы русского языка, начавший обучение в школе в 1903 г., выехал в Россию в сентябре 1905 г. [13, с. 1об., 3–3об.].
Степень внимания к преподаванию конкретных иностранных языков демонстрировала приоритеты внешней политики империи. Количество преподавателей-иностранцев английского и французского языков в несколько раз превышало количество российских наставников. Ситуация повторялась и на уровне учащихся: слушателей, изучавших русский язык, было намного меньше, чем тех, кто изучал другие европейские языки24, да и те, кто числились в русской группе, демонстрировали вполне обычные знания предмета и в общих рейтингах успеваемости занимали средние позиции. Общая неблагоприятная обстановка, которая складывалась вокруг преподавания русского языка, не раз становилась предметом дискуссий российского учителя Григорьева с руководством школы. Сложно сказать, улучшилась ли ситуация в будущем и смог ли россиянин выполнить поставленную ему Ведомством по делам просвещения задачу по составлению плана по совершенствованию преподавания русского языка. Скорее всего, каких-либо заметных преобразований в образовательном процессе не последовало, и одной из важных причин была низкая заинтересованность учащихся. Если поначалу в школу пытались попасть многие абитуриенты, сделавшие выбор в пользу нового западного образования перед классическим, вследствие реорганизации экзаменационной системы кэцзюй , то в последующие годы высоким спросом школа не пользовалась. Мало кто из выпускников учебного заведения, и в частности отделения русского языка, достиг каких-либо выдающихся результатов по окончании школы. Ни один из выпускников русского отделения не продолжил обучение в университете, хотя они имели на то права и, возможно, обладали некоторыми льготами при поступлении и обучении. В итоге даже спустя много лет после окончания эти выпускники продолжали служить на низких и средних исполнительских позициях в государственных ведомствах и учреждениях.
Как бы то ни было, школа Исюэгуань внесла вклад в становление практики преподавания иностранных языков, включая русский, в стенах Пекинского университета. Разработанная правовая база, обеспечивавшая образовательный процесс в школе, была использована при орга- низации преподавания иностранных языков в Пекинском университете, в организационном плане делая это направление в вузе стабильно работавшим и наиболее привлекательным для последующего поколения студентов.
Список литературы Школа иностранных языков (исюэгуань) при пекинском университете и преподавание в ней русского языка (1904-1911 гг.)
- Бэйцзин дасюэ шиляо (Исторические материалы по Пекинскому университету). Т. I (1898-1911). Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 1993.
- Дацышен В.Г. Изучение русского языка в Китае в конце Х1Х - начале ХХ вв. // Сборник материалов 43-й научной конференции «Общество и государство в Китае». Ч. I. М., 2013. С. 577-586.
- Дэн Шаохуэй. Ваньцин цайчжэн юй чжунго цзиньдайхуа (Финансы в поздние годы династии Цин и модернизация Китая). Чэнду: Сычуань жэньминь чубаньшэ, 1998.
- Исюэгуань цзя цзи ди эр сюэци фэньшу пинцзюньбяо (Таблица баллов за успеваемость второго семестра группы «цзя» Школы иностранных языков «Исюэгуань»). Пекин, 1904.
- Ли Наньцю. Цин мо исюэгуань юй фаньи жэньцай (Школа иностранных языков Исюэ-гуань в поздние годы династии Цин и переводческие кадры) // Чжунго фаньи. 1996. № 3. С. 45-46.