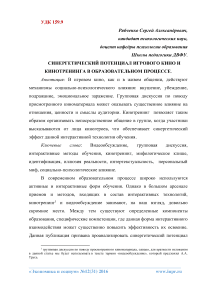Синергетический потенциал игрового кино и кинотренинга в образовательном процессе
Автор: Рябченко С.А.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Современные науки и образование
Статья в выпуске: 12-3 (31), 2016 года.
Бесплатный доступ
В игровом кино, как и в живом общении, действуют механизмы социально-психологического влияния: внушение, убеждение, подражание, эмоциональное заражение. Групповая дискуссия по поводу просмотренного киноматериала может оказывать существенное влияние на отношения, ценности и смыслы аудитории. Кинотренинг позволяет таким образом организовать непосредственное общение в группе, когда участники высказываются от лица киногероев, что обеспечивает синергетический эффект данной интерактивной технологии обучения.
Видеообсуждение, групповая дискуссия, интерактивные методы обучения, кинотренинг, мифологическое клише, идентификация, иллюзия реальности, интертекстуальность, персональный миф, социально-психологическое влияние
Короткий адрес: https://sciup.org/140117834
IDR: 140117834
Текст научной статьи Синергетический потенциал игрового кино и кинотренинга в образовательном процессе
В современном образовательном процессе широко используются активные и интерактивные форм обучения. Однако в большом арсенале приемов и методов, входящих в состав интерактивных технологий, кинотренинг1 и видеообсуждение занимают, на наш взгляд, довольно скромное место. Между тем существуют определенные компоненты образования, специфические компетенции, где данная форма интерактивного взаимодействия может существенно повысить эффективность их освоение. Данная публикация призвана проанализировать синергетический потенциал игрового кино и кинотренинга в образовательном процессе.
Профессиональное педагогическое общение пронизывает всю ткань образовательного процесса. В связи свыше обозначенной темой принципиально важен вопрос, который задает Ю. М. Лотман: «Является ли кино коммуникативной системой? Но в этом, кажется, никто не сомневается. Режиссер, киноактеры, авторы сценария, все создатели фильма что-то нам хотят сказать своим произведением. Их лента - это как бы письмо, послание зрителям» [7, с.6]. В другой работе данного автора мы так же можем прочесть: «Но у читателя могут возникнуть недоуменные вопросы. Например, если экран собеседник, то он должен вести со мной - лично со мной - диалог, отвечать на мои вопросы. Что ж это за собеседник, который всю свою речь заранее записал и повторяет ее безо всяких изменений каждые два часа? [6, с.6]. Действительно в первом приближении может сложиться впечатление, кино - это монолог, который повторяется на каждом последующем киносеансе во всех кинотеатрах, где оно демонстрируется. Хотя Ю. М. Лотман в своих текстах часто использует словосочетания «экран как собеседник», «диалог с экраном», тем не менее, по всем признакам это опосредованное общение. Безусловно, происходит внутренний диалог кинозрителя, однако непосредственная интеракция отсутствует. Так ли это мы рассмотрим чуть позже. Прежде всего, следует согласиться, что кино -это особый вид общения, и в нем так же присутствуют определенные механизмы социально-психологического влияния, характеризующие общение в целом (внушение, убеждение, подражание, эмоциональное заражение). Приведем несколько аргументов в пользу последнего утверждения.
Ю.Н. Арабов [1, с.16-32] анализируя особенности восприятия кино, указывает на суггестивные средства фильма (изображение, звук, слово, пауза). Суггестивные свойства кино проявляются, в частности, еще и в то, что сознание буквально сужаться до размеров «экрана». Данный автор описывает ряд феноменов суггестии в кино в терминах нейролингвистического программирования (образ, символ, знак и "якорная техника"). «В кинематографе "якорная техника" уводит нас к так называемой "виртуальной реальности", чья власть будет огромной. В психологии – к трансперсонализму, где "как захотим, так и сделаем" и где понятие реальности уже не существует» [1, с.34]. Следует отметить, что в ряде кинофильмов суггестия основывается на еще более тонких механизмах, апеллирующих к глубинным структурам бессознательного. Например, «Значительная часть успеха «Звездных войн» объясняется точным соответствием архетипическим доминантам и тем, что событийная последовательность фильма отражала логику архетипического мотива, лежащего в его основе» [3, с.58-59].
Механизмы убеждения в кино строятся на том, что, оставаясь искусством, оно отражает «фотографическую» реальность. Дело не только в том, что в игровом кино находят отражение достоверные факты, как, например, в исторических фильмах. В подобных киноповествованиях авторы усиливают эффект «документальности». Так, например, художественный фильм «Зелиг» (режиссер Вуди Аллен, 1983 г.) начинается с того, что создатели этого «документального» фильма выражают благодарность доктору Флетчер. Далее следует перечень других «авторитетных» имен, между тем, это игровой фильм. Эффект документальности, кроме всего прочего, достигается вплетением документальных кадров в ткань игрового кино. В нарочито документальной черно-белой стилистике, Зелиг – главный герой киноповествования – в кадре со Скоттом Фицджеральдом, Папой Пием XI, Адольфом Гитлером, и другими реальными историческими персонажами. И не смотря на то, что становится понятно, что это «Зелиг» – это социальная сатира, а «документальность» – художественный прием, ощущение правдивости повествования усиливается. Леонард Зелиг – вымышленный персонаж, однако социум выглядит очень реалистично. Подобный прием используется в фильме «Форрест Гамп» (режиссер Роберт Земекис, 1994 г.). Чего только стоит сцена телевизионного ток-шоу с Джоном Ленноном, где последний в качестве комментариев к словам Гампа произносит строчки текста песни "Imagine".
Безусловно, многие зрители подражают в той или иной мере героям кинофильмов, ребенок может воображать, что он человек-паук или принцесса Марса (режиссёр Марк Аткинс, 2009 г.), юноша, что он – Рокки Бальбоа. Однако и в данном случае существуют более тонкие механизмы.
Идентификация с героем киноповествования помогает кристаллизации персонального мифа, в том смысле, как об этом писал А. Ф. Лосев, указывая на связь личности с мифом, хотя миф не тождественен личности, а только ее лик. А поскольку лик неотделим от личности, то и миф неотделим от нее. «Миф – символ, определяющий траекторию человеческой жизни и ее смысл» [5, с. 74]. В подтверждении влияния кино на становление персонального мифа можно привести пример из собственной практики. По окончанию групповой дискуссии, одна из участниц сказала, что фильм, который мы обсуждали, вызвал у нее определенный интерес, но ее любимая лента «Дьявол носит Prada» (режиссер Дэвид Френкель, 2006 г.). Поскольку у меня была возможность ставить представление об отношении данного человека к процессу обучения в вузе, ее выбор стал еще более понятен. Ее идентификация с героиней фильма Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй) сводилась не столько к внешним атрибутам, сколько к поведенческим установкам. Как и Андреа Сакс она стремится быть пунктуальной, целеустремленной, организованной, ее самореализация осуществляется через профессиональную карьеру, т.е. те черты, которые характеризуют взрослого ответственного человека, что особенно заметно в сравнении с ее сверстниками. Другими словами ее персональный миф, в кратком пересказе, может выглядеть, как «История Золушки»: обыкновенная девушка, благодаря собственным усилиям и характеру может оказаться «на вершине». А. Менегетти по этому поводу пишет: «Если ты отождествляешь себя с данной ситуацией, значит она – твоя, и твоя жизнь завершится точно так же, как история в фильме» [8, с.98]. Благодаря персональному мифу отдельные элементы сознавания складываются в «пазл», где все структурируется и соотносится с человеком.
Кратко отметим, двойная идентификация с ситуацией и/или героем способствует эмоциональному сопереживанию персонажам киноповествования. Срабатывает социально-психологический механизм эмоционального заражения, и его действие тем сильнее, чем полнее совпадают идентичности на экране и у зрителя.
Какие компоненты образования наиболее чувствительны к выше описанным механизмам социально-психологического влияния, и каким образом можно использовать в этой связи кинотренинг? Для этого следует обратить наше внимание непосредственно к структурным компонентам образования. За основу мы взяли представления о содержании образования В.В. Гузеева и А.А. Остапенко [2, с.135], которые отображены в таблице.
Компоненты содержания образования .
|
Экстериорные/ Интериорные объекты |
Интериорные объекты |
|
|
Усвоение |
Присвоение |
|
|
Факты |
Представления |
Знания |
|
Способы |
Умения |
Навыки |
|
Ценности, отношения |
Нормы |
Убеждения, смыслы |
Не вдаваясь в терминологические тонкости, кратко отметим, что экстериорные компоненты содержания образования (внешние по отношению к учащемуся), а интериорные – внутренние к омпоненты (присвоенные учащимся). Особую культурную ценность представляют те присвоенные компоненты, которые глубоко укореняются в личности учащегося в виде смыслов и ценностей. Знания и умения сравнительно легко формализуются, калькулируются и измеряются (ЕГЭ, ГИА и т.п. тесты, рейтинги). В силу этого они, главным образом, являются предметом внимания в образовательном процессе.
Однако ценности и смыслы невозможно передать, как знания. Они передаются от учителя ученику через механизмы социально - психологического влияния (внушение, убеждение, подражание, эмоциональное заражение). Прежде всего, речь идет о личностноразвивающем и воспитывающем характере образования, важнейшим инструментом которого является - педагогическое общение. «Смыслу не учат, - писал А. Н. Леонтьев, - смысл воспитывается» [4; Т.1, с.369].
Коль скоро речь идет о кино, то сопроводим данный тезис фрагментом «о пятнадцати строчках в учебнике» из х/ф «Доживем до понедельника» (режиссер Станислав Ростоцкий, 1968 г.).
Послушай, Костя. Вот началось восстание и не к Шмидту, а к тебе, живущему 60 лет назад, приходят революционные моряки с крейсера "Очаков" и говорят: "Вы нужны флоту и революции". А ты знаешь, что бунт обречен, ваш единственный крейсер без брони, без артиллерии со скоростью 8 уз/час не выстоит. Как тебе быть? Оставить моряков одних под пушками адмирала Чухнина или идти и возглавить мятеж? И стоять на мостике под огнем и, наверняка, погибнуть.
-
- Без всяких шансов на успех, какой смысл?
-
- Вечно ты со своим смыслом (Рита)!
-
- Правильно, Рита (возгласы школьников)!
-
- Тихо, тихо, тихо.
-
- И так, был задан вопрос, какой смысл в поступке Шмидта и его гибели?
-
- Ну, ясно какой! Без таких людей и революции бы не было.
Из приведенного отрывка - очевидно, что в данной сцене диалог между Костей и Ильей Семеновичем - это о ценностях и смыслах. И столь же очевидно, что без крупных планов, где запечатлены глаза учеников (обычный текст не может это передать) многие смыслы теряются. Без просмотра данного фрагмента нельзя проследить, как меняется позиция Риты, других учеников в разворачивающемся перед ними конфликте ценностей. Как говориться, лучше один раз увидеть^
Выше приведенный отрывок наглядно иллюстрирует тот факт, что полноценное образование, наряду со знаниями и умениями, в качестве третей «точки опоры» предполагает ценностный компонент. Только тогда вся система образовательного процесса становится устойчивой. Карл Роджерс вспоминает: «Ректор Калифорнийского университета, однажды сказал мне, что он отбирал бы студентов по одному-единственному показателю -любознательности» [9, с. 23]. Любо знательность, любо пытство, трудо любие -это всегда про отношение, про смыслы и ценности.
Во-вторых, кинофрагмент «о пятнадцати строчках в учебнике» является ярким примером диалогического стиля педагогического общения. Однако не все педагоги обладают такими ресурсами влияния, которые продемонстрировал Илья Семенович, в конце концов, роль исполняет обаятельнейший Вячеслав Тихонов. Педагог - массовая профессия, не все учителя Макаренко и Сухомлинские. Не все педагоги обладают такой способностью оказывать влияние, такой харизмой, лидерскими качествами. В этой связи использование игрового кино в образовательном процессе может оказаться существенным подспорьем, помогающее компенсировать определенные пробелы в коммуникативной компетентности.
В-третьих, в зависимости от целей, которые ставятся на учебных занятиях, педагог может по своему усмотрению выбрать эпизоды того или оного произведения, изменить порядок просмотра. Использовать технику «стоп кадр», т.е. сопровождать каждый просмотренных фрагмент обсуждением. Таким образом перемонтировать фильм, усиливая тот эффект, которого он добивается.
В книге «Диалог с экраном» приводится масса примеров, как монтаж фильма коренным образом изменяет восприятие зрителя. Например, «В начале 1920-х годов режиссер и теоретик кино Лев Владимирович Кулешов произвел несколько экспериментов, сделавшихся в дальнейшем классическими. Он смонтировал одно и то же киноизображение, дававшее крупным планом лицо известного актера немого кино Мозжухина, с различными кадрами: тарелкой супа, играющим ребенком, женщиной в гробу. Несмотря на то, что фотография лица во всех случаях была одна и та же, у зрителей создавалась отчетливая иллюзия мимики актера: лицо Мозжухина менялось, выражая оттенки различных психологических переживаний» [7, с. 15]. В настоящее время широкое применение мультимедиа технологий позволяет, даже имея скромный набор инструментов, смонтировать, «собственный» фильм, позволяющий добиваться необходимого эффекта. Довольно часто можно заметить, что впечатление от трейлера фильма (рекламного видеоролика о фильме) и собственно впечатление от просмотра полной версии кинопроизведения могут отличаться разительным образом.
Следует сказать еще об одном преимуществе, которое дает групповая дискуссия, организованная после просмотра кинофрагмента. «Однажды один из авторов этой книги смотрел со своим близким другом, крупным лингвистом, фильм Роб-Грийе и Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде». Выйдя, мы стали обмениваться впечатлениями и неожиданно убедились, что, сидя рядом в одном и том же зале, мы видели два совершенно различных фильма, даже сюжеты совершенно не совпадали» [7, с. 6]. В приведенной выше цитате, на наш взгляд, находит свое отражение концепции интертекстуальности в кинематографе. Так М.Б. Ямпольский пишет: «Текст не вещь, это трансформирующееся поле смыслов, которое возникает на пересечении автора и читателя. При этом тексту принадлежит не только то, что сознательно внес в него автор, но и то, что вносит в него читатель в своем с ним диалоге» [10, с.34]. Таким образом, участники видеообсуждения становятся «соавторами» кинематографического текста, т.е. в процессе групповой дискуссии по поводу просмотренного материала участники получают возможность непосредственного общения, выступая от лица киногероев, привнося свои смыслы и ценности. В этом и состоит синергетический эффект кинотренинга. Данная форма интерактивного обучения в значительной мере снимает противоречие между кино, как монологом, дополняя его непосредственной интеракцией, которая становится своеобразной «фабрикой» смыслов.
В заключении следует отметить следующие положения:
-
1. Игровое кино – это особый вид общения, в нем так же присутствуют механизмы социально-психологического влияния: внушение,
-
2. Наиболее чувствительными компонентами образования к воздействию кинематографа являются: отношения, ценности и смыслы.
-
3. Процесс групповой дискуссии по поводу просмотренного материала дает возможность непосредственного общения, от лица киногероев, что обеспечивает синергетический эффект кинотренинга.
убеждение, подражание, эмоциональное.
Список литературы Синергетический потенциал игрового кино и кинотренинга в образовательном процессе
- Арабов Ю. Н. Кинематограф и теория восприятия. Учебное пособие -М.: ВГИК, 2003. -106 с.
- Гузеев В.В., Остапенко А.А. Усвоение знаний и освоение умений: сходство и различие процессов//Народное образование. 2009. № 4. С. 131-138.
- Кино и глубинная психология. Юнгианский взгляд. Сборник. -М: МААП, 2010. -304 с.
- Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. М.: Педагогика, 1983. Т.1. 392 с.
- Лосев А. Ф. Диалектика мифа. Миф-Число-Сущность. М.: Мысль, 1993, 920 с.
- Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. -Таллин: «Ээсти Раамат», 1973. -138 с./: Режим доступа: http://lib.ru/CINEMA/kinolit/LOTMAN/kinoestetika.txt
- Лотман Ю.М., Цивьян Ю.Г. Диалог с экраном. Таллинн: «Александра», 1994. -216 с.
- Менегетти А. Кино, театр, бессознательное. Том 1. -М.: ННБФ Онтопсихология, 2001. -384 с.
- Роджерс К. Вопросы, которые я бы себе задал, если был бы учителем//Семья и школа". 1987. № 10. С. 22-24.
- Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М.: РИК Культура,1993. -464 с.