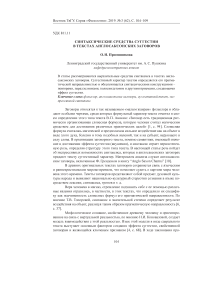Синтаксические средства суггестии в текстах англосаксонских заговоров
Автор: Просянникова Ольга Игоревна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются выразительные средства синтаксиса в текстах англосаксонских заговоров. Суггестивный характер текстов определяется его прагматической направленностью и обеспечивается синтаксическими конструкциями - повторами, параллелизмами, полисиндетоном и другими приемами, создающими эффект суггестии.
Фольклор, англосаксонские заговоры, суггестивный текст, экспрессивный синтаксис
Короткий адрес: https://sciup.org/146281473
IDR: 146281473 | УДК: 811.11
Текст научной статьи Синтаксические средства суггестии в текстах англосаксонских заговоров
Заговоры относятся к так называемым «малым жанрам» фольклора и обладают особыми чертами, среди которых формульный характер текста отметил в своем определении этого типа текста В. П. Аникин: «Заговор есть традиционная ритмически организованная словесная формула, которую человек считал магическим средством для достижения различных практических целей» [1, с. 94]. Словесная формула считалась магической и предполагала сильное воздействие как на объект в виде злого духа, болезни и тому подобных явлений, так и на субъект, верующего в силу слова. В организации заговорного текста, помимо семантики, имеющей значение в достижении эффекта суггестии (внушения), и синтаксис играет первостепенную роль, определяя структуру этого типа текста. В настоящей статье речь пойдет об экспрессивных возможностях синтаксиса, которые в англосаксонских заговорах придают тексту суггестивный характер. Материалом анализа служат англосаксонские заговоры, включенные Ф. Грендоном в книгу “Anglo Saxon Charms” [10].
В древних оригинальных текстах заговоров сохраняется связь с языческим и раннехристианским мировоззрением, что позволяет судить о картине мира человека этого времени. Тексты заговоров представляют собой предмет духовной культуры народа и выявляют национально-культурный стереотип сознания в языке посредством лексики, синтаксиса, тропов и т. д.
Вера человека в магию, стремление подчинить себе с ее помощью различные явления отразились, в частности, в этих текстах, что определило их специфику как подчиненность словесных формул его прагматической направленности. По мнению Т.В. Топоровой, синтаксис в значительной степени определяет результат воздействия на объект, реализуя таким образом прагматическую направленность [6, с. 37].
Мифологическое сознание, свойственное древнему человеку и ориентированное на связь с виртуальной реальностью, по мнению Н.И. Коноваловой, создает модель взаимодействия с этой реальностью. Язык этой модели в виде сакрального текста выступает основным фактором создания эффекта суггестии, свойственной заговорам и являющейся ключевым признаком [4, с. 68]. В ходе заклинания про- исходит акт воздействия, внушения в успешности достижения желаемого. Таким образом, многие авторы относят заговоры к универсальным суггестивным текстам, что справедливо [7]. Эффект такого воздействия может достигаться различными средствами. Среди них можно выделить синтаксические выразительные средства: параллельные конструкции, многосоюзие, повторы. Все они усиливают динамичность, экспрессивность, придавая тексту определенную ритмичность, а по мнению психолингвистов, именно ритмизованный текст обладает эффектом внушения (суггестии) [2; 8]. При условии значительного количества повторов, с одной стороны, задается ритм как динамический фактор текстообразования, а с другой стороны, усиливается эффект внушения [2]. В заговоре как суггестивном тексте представлен прагматический коммуникативный акт, в котором субъект (заклинатель или тот, кому передана роль заклинателя) обращается к различным магическим персонажам или предметам, чтобы добиться желаемого. И в восприятии этого субъекта надо как можно эффективнее воздействовать на ситуацию, используя различные языковые средства.
Являясь особым типом текста, который характеризуется ритмически организованной словесной формулой, заговор обладает своими синтаксическими маркерами. Стилистический потенциал выразительности синтаксиса составляют экспрессивные возможности инверсии, синтаксические построения в виде повторов, перечислений, сравнительных конструкций, а также сложные предложения с избыточным употреблением союзов и другие синтаксические структуры. Синтаксические стилистические средства придают тексту не только экспрессивность, но и создают смысловое единство, целостность и связность композиционной структуры, что в конечном итоге приводит к реализации прагматической установки текста.
Характерной чертой проанализированных текстов является параллелизм, представленный моделями с одинаковым синтаксическим построением, в которых подобные структуры следуют близко друг за другом на протяжении всего текста, либо в пределах определенной его части. Функционально такой прием упорядочивает композицию, симметрично выстраивая смысловые единства, организующие весь текст. Предложения, представленные ниже, располагаются в первой части заговора “Wið Fǣrstice” («Против острой боли») и, с одной стороны, являясь восклицательным предложением, создают акцент в ритме всего текста, с другой стороны, выполняют соединительную функцию.
“Ūt, lȳtel spere, gif hēr inne sie!
Ūt, lȳtel spere, gif hit hēr inne sȳ!
Ūt, lȳtel spere, gif hēr inne sȳ!” [10, p. 164].
(«Прочь маленькое копье, если ты внутри!»)
В этих предложениях наблюдается полная параллельная конструкция, в которой изменения присутствуют только в финальной позиции, где глагол bēon – «быть» стоит в различных формах (sie, sȳ).
Ведущей чертой стилистического синтаксиса в заговорах является лексический повтор, который, будучи дополнительным синтаксическим средством, как правило, сопровождает параллельную конструкцию и формирует ее:
-
(1) “Ēastweard ic stande, ārena ic mē bidde ,
bidde ic ðone mǣran domine, bidde ðone miclan ndrihten, bidde ic ðone hāligan heofonrīces weard, eorðan ic bidde and ūpheofon, and ðā sōþan sancta Marian, and heofones meaht and hēahreced þæt ic mōte þis gealdor mid gife drihtnes tōðum ontȳnan…” [Ibid., p. 174].
(«Я обращаю лицо к Востоку / И молю оказать мне услугу. / Молю тебя, Господь мой, славный и великий, / Молю тебя, святой хранитель небес, / Молю тебя земля и молю тебя небо, / Молю пресвятую Деву Марию / И силу небес могучих / Благодатью Господа я воздаю вам хвалу».)
-
(2) “ Ðū miht wið III and wið XXX, þū miht wið āttre and wið onflyge, þū miht wiþ þām lāþan, ðe geond lond færð” [Ibid., p. 190].
(«Ты сильна против трех и тридцати, / ты сильна против яда и против болезней, / ты сильна против зла, которое бродит повсюду».)
Повтор предиката ( bidde, miht) придает большую убежденность и уверенность действиям, которые посредством этого предиката выражены.
Одна из моделей лексико-синтаксического повтора реализуется в идентичной синтаксической структуре предложения (oððe wǣre on) и в эпифоре, при которой каждая фраза заканчивается повтором глагола:
“Gif ðū wǣre on fell scoten , oððe wǣre on flǣsc scoten, oððe wǣre on blōd scoten , oððe wǣre on bān scoten , oððe wǣre on lið scoten , nǣfre ne sȳ ðin lif ātǣsed!” [Ibid., p. 164].
(«Если попали тебе в кожу, если попали тебе в плоть, если попали тебе в конечность, если попали тебе в кость, пусть жизнь твоя не прервется!»)
Повторы с предлогами и отрицательными конструкциями, выполняя формальную функцию связывания предложений, придают тексту эмоциональность и выразительность, наращивая смысловой потенциал заговора:
“Ic mē on þisse gyrde belūce, and godes helde bebēode wið ðane sāra stice, wið ðane sāra slege, wið ðane grymman gryre, wið ðane micelan egsan, þe bið ēghwām lāð, and wið eal þæt lāð, þe intō land fare” [Ibid., p. 176].
(«Защищаю себя этим мечом и отдаю милости Господа против мучительной боли, против внезапной болезни, против боязни жестокости, против ужасающей необъятности всего отвратительного и против всего, что ненавистно, что может прийти на эти земли».)
В повторяющихся предложных сочетаниях wið – «против» усиливается суггестивный момент, направленный на достижение желаемого.
Отрицательные конструкции как прием выполняют различные функции, в том числе уничтожение злых духов. В смысловом плане отрицание является желанием откреститься, освободиться отгородиться от так называемого антимира, представленного злыми духами и черными силами [5, с. 343–346]:
“Ic benne awrāt betest beadowrǣda, swā benne ne burnon, ne burston, ne fundian, ne feologan, ne hoppetan, ne wund wāco sīan , ne dolh, dīopian” [10, p. 194].
(«Я венком повязал все лечащие амулеты, чтоб раны никогда не горели, не вскрывались, не ухудшались, не увеличивались, не нарывали, не гноились, не становились глубже».)
“Hwæt, eorðe mæg wið ealra wihta gehwilcem and with andan, and wið ǣminde, and wið þā micelan mannes tungan” [Ibid., p. 168].
(«Я ставлю ногу, я подмял их. Земля сильна против любого существа, и против ненависти, и против беспамятства, и против злых языков».)
Многосоюзие (полисиндетон), также часто используемое в текстах заговоров, функционально несет важную нагрузку: задает ритм, связывает текст, усиливает интонационный рисунок и в конечном счете осуществляет воздействие, то есть создает суггестивный эффект:
“Erce, Erce, Erce, eorþan mōdor, geunne þē sē alwalda, ēce drihten æcera wexendra and wrīdendra, æcniendra and elniendra, sceafta scīra hersewæstma, and þǣre brādan berewæstma, and ðǣre hwītan hwǣtewæsma, and ealra eorþan wæstma” [Ibid., p. 174].
(«Эрке, Эрке, Эрке, мать Земли, / Будь благословенна, земля, мать людей! / Цветущими полями и почвами благородными, / Богатыми урожаями проса, ячменя и пшеницы / И всеми другими урожаями на всей земле».)
“… and ðū hȳ scealt niman þonne sē mōna bið nigon nyhta eald, and endlyfon nihta, and ðrēottȳne nyhta, and ðritting nihta, and ðonne hē byð are nihte bald” [Ibid., p. 188].
(« …и ты должен взять ее (траву), когда луне будет девять ночей и одиннадцать ночей, и тринадцать ночей, и тридцать ночей и когда одна ночь».)
Отдельные тексты представляют собой конгломерат всех выразительных средств синтаксиса, как например, заговор “Wið Fēos Nimunge” («Против кражи скота»). В короткой метрической части присутствуют и многосоюзие, и параллелизм. Такое сочетание нагнетает эмоциональный заряд и усиливает каждый элемент конструкции:
“Garmund, godes ðegen, find þæt feoh and fere þæt feoh, and hafa þæt feoh and heald þæt feoh, and fere hām þæt feoh, þæt hē nǣfre nibble landed, þæt hē hit oðlǣde, ne foldan, þæt hē hit oðferie, ne hūsa, þæt hē hit oðhealde” [Ibid., p. 180].
(«Гармунд, слуга Господа, найди тот скот и приведи тот скот, и владей тем скотом, и держи тот скот, и приведи тот скот домой, чтоб никогда он не имел земли, куда увести скот, земли, куда забрать, дома, где спрятать».)
Известно, что в древнеанглийском языке порядок слов в предложении не был строго регламентирован. Прямой порядок слов преобладал над обратным, который в некоторых случаях, в частности, в поэтических текстах использовался в стилистических целях [3, с. 145]. Инверсия как элемент создания экспрессивности и динамичности присутствует в различных конструкциях: «сказуемое, подлежащее» (1), «предлог, глагол» (2). Наиболее распространенным обратным порядком является вынесение обстоятельственных слов (ðonne тогда, ðǣr там) в начало предложения, а глагола-сказуемого в замыкающую позицию (ðonne ic þis āttor of ðē geblāwe) [9, p. 103].
В приводимом ниже примере присутствуют все перечисленные приемы инверсии:
“Hlūde wǣran hȳ, lā hlūde, ðā hȳ ofer þone hlǣw ridan; wǣran ānmōde, ðā hȳ ofer land ridan” [10, p. 164].
(«Громко, ох, как громко они в гору ехали, в ярости были, когда они по земле ехали».)
Подводя итог, следует отметить, что синтаксис является значительным маркером, определяющим характер жанрового текста заговора. Поскольку ключевым свойством заговора является прагматическая направленность, то цель такой установки – воздействие на объект и субъект заклинания путем создания эффекта суггестии (внушения). Этого эффекта можно достигать в том числе и синтаксическими средствами экспрессии, среди которых нами выделены параллельные конструкции и сопровождающие их дополнительные синтаксические повторы, а также прием инверсии и многосоюзие. Характерной чертой текстов заговоров являются параллельные конструкции и повторы. Они создают связность, цельность текста, динамичность, ритмичность, придают эмоциональность. Все это в совокупности порождает эффект суггестии как базового признака этого типа текста.
Pushkin Leningrad State University the Foreign Languages Department
Список литературы Синтаксические средства суггестии в текстах англосаксонских заговоров
- Аникин В. П. Русское устное народное творчество. М.: Высш. шк., 2001. 725 с.
- Болтаева С. В. Ритмическая организация суггестивного текста: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / С. В. Болтаева; Уральский гос. ун-т. Екатеринбург, 2003. 19 с.
- Ильиш Б. А. История английского языка. М.: Высшая школа, 1968. 419 с.
- Коновалова Н. И. Лечебные заговоры как суггестивный текст // Известия Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2004. № 7. С. 67 -75.
- Толстая С. М. Образ мира в тексте и ритуале. М.: Рус. фонд содействия образованию и науке, 2015. 528 с.
- Топорова Т. В. Язык и стиль древнегерманских заговоров. М.: Эдиториал УРСС, 1996. 216 с.
- Черепанова И. Ю. Текст как фактор изменения установки личности (лингвистические аспекты суггестии): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / И. Ю. Черепанова; Пермский ун-т. Пермь, 1992. 21 с.
- Шелестюк Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования. М.: Флинта: Наука, 2014. 344 с.
- Crystal D. The Stories of English. Lnd.: Penguin Books, 2005. 584 p.
- Grendon F. The Anglo-Saxon Charms. N.Y.: Columbia University, 1909. 134 p.