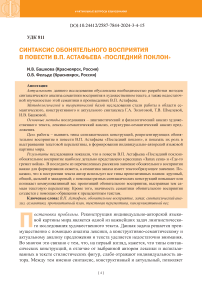Синтаксис обонятельного восприятия в повести В.П. Астафьева "Последний поклон"
Автор: Башкова И.В., Фельде О.В.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Актуальные вопросы языкознания
Статья в выпуске: 3 (28), 2024 года.
Бесплатный доступ
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки методов синтаксического анализа семантики восприятия в художественном тексте, а также недостаточной изученностью этой семантики в произведениях В.П. Астафьева. Методологической и теоретической базой исследования стали работы в области семантического, конструктивного и актуального синтаксиса Г.А. Золотовой, Т.В. Шмелевой, И.В. Башковой. Основные методы исследования - лингвистический и филологический анализ художественного текста, лексико-семантический анализ, структурно-семантический анализ предложения. Цель работы - выявить типы синтаксических конструкций, репрезентирующих обонятельное восприятие в повести В.П. Астафьева «Последний поклон», и показать их роль в выстраивании текстовой перспективы, в формировании индивидуально-авторской языковой картины мира. Результаты исследования показали, что в повести В.П. Астафьева «Последний поклон» обонятельное восприятие наиболее детально представлено в рассказах «Запах сена» и «Где-то гремит война». В последнем из перечисленных рассказов значение обонятельного восприятия важно для формирования сюжета, а семантика запаха имеет текстообразующее значение. Показано, что в построении текста автор использует все типы пропозитивных планов: крупный, общий, дальний и закадровый; с помощью разных синтаксических конструкций повышает или понижает коммуникативный вес пропозиций обонятельного восприятия, выстраивая тем самым текстовую перспективу. Кроме того, значимость семантики обонятельного восприятия создается с помощью обращения к прецедентным текстам.
В.п. астафьев, обонятельное восприятие, запах, синтаксический анализ, семантика, пропозитивный план, текстовая перспектива, коммуникативный вес
Короткий адрес: https://sciup.org/144163243
IDR: 144163243 | УДК: 811 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-3-4-15
Текст научной статьи Синтаксис обонятельного восприятия в повести В.П. Астафьева "Последний поклон"
остановка проблемы. Реконструкция индивидуально-авторской языковой картины мира является одной из важнейших задач лингвистического исследования художественного текста. Данная задача решается преимущественно с помощью анализа лексики, а конструктивно-семантическому и актуальному анализу предложения и текста уделяется недостаточно внимания. Во многом это связано с тем, что, на первый взгляд, кажется, что типы синтаксических конструкций, в отличие от выбранной автором лексики и использованных в тексте стилистических фигур, слабо отражают индивидуальность автора. Между тем именно синтаксис, конструктивный и актуальный, позволяет автору расставить акценты, распределить роли между участниками событий, показать значимость той или иной ситуации для произведения в целом (см., например: [Васильева, Коняшкин, 2023]). Значимость конструктивного синтаксиса для создания индивидуально-авторской языковой картины мира можно продемонстрировать на примере того, как представлено обонятельное восприятие в тексте повести «Последний поклон» В.П. Астафьева.
Обзор литературы . В настоящее время существует значительное количество исследований, посвященных творчеству В.П. Астафьева [Гончаров, Романцова, 2023; Зверев, 2020; Ревенко, 2017; Самотик, 2022; Фельде, 2009; и др.]. Т.П. Медведева показала, насколько разнообразна тематика таких работ [Медведева, 2021]. Предпринята попытка исследования лексики запахов и звуков в «Последнем поклоне» [Сальникова, 2014], а конструктивное и актуальное устройство предложений, репрезентирующих восприятие в произведениях В.П. Астафьева, остается вне поля зрения лингвистов. Данное исследование должно закрыть эту лакуну и показать, насколько важен для понимания многомерного устройства языковой картины мира художественного текста его синтаксический анализ.
Теоретической и методологической базой настоящей работы послужили идеи Г.А. Золотовой о структуре предложений с семантикой восприятия и размышления Т.В. Шмелевой о взаимодействии конструктивного и актуального аспектов предложения [Золотова, 1982; Шмелева, 2013]. Кроме того, для данной статьи важными являются выводы, сделанные в кандидатской диссертации И.В. Башковой1.
Для представления восприятия в русском языке существует определенная система структурно-семантических моделей предложений. Общность комплекса семантико-синтаксических компонентов для них «предопределена их общим значением чувственного восприятия субъектом внешних явлений» [Золотова, 1982, с. 222].
«В зависимости от того, какая из составляющих процесса восприятия - действие или состояние субъекта восприятия – репрезентируется в предложении, от эксплицитности представления субъекта (как главного участника ситуации в антропоцентрической концепции языковой картины мира) и самого процесса восприятия можно выделить несколько пропозитивных планов события восприятия» [Башкова, 1995, с. 32]. «Каждый пропозитивный план представляет собой определенный тип пропозиций восприятия или же других пропозиций, в пресуппозицию которых включено значение восприятия, а также систему репрезентаций этих пропозиций» [Там же, с. 33]. Иерархизация пропозитивных и пресуп-позитивных способов представления ситуации восприятия выстраивает пропо-зитивные планы в парадигму.
« Крупный пропозитивный план характеризуется тем, что помещает в семантический фокус предложения действия субъекта восприятия» [Там же, с. 35]. Пр.: Собака обнюхивала меня; Девушка понюхала цветок; Он принюхивается .
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)

К крупному пропозитивному плану можно отнести предложения, в которых репрезентируется обнаружение объекта по запаху. Пр.: Собака унюхала зайца ; Лось унюхал волка .
« Общий пропозитивный план <_> помещает в семантический фокус предложения перцептивное состояние субъекта в отвлечении от перцептивного действия» [Башкова, 1995, с. 65]. Пр.: Я почувствовал запах зверя ; Собака чует запах зайца ; Ребенок слышит запах молока - это предложения с субъектной перспективой. В предложениях с объектной перспективой существительные, обозначающие объект восприятия (запах), стоят в форме именительного падежа, а субъект восприятия репрезентируется существительными в косвенных падежах, представляется как объект воздействия. Пр.: Меня охватил запах театра ; Аромат чая ударил в ноздри ; До меня доносится аромат роз .
Дальний пропозитивный план отличается тем, что в его пропозициях субъект восприятия эксплицитно не обозначен, но используются предикаты со значением восприятия – возвратные глаголы: чувствоваться , слышаться , ощущаться , различаться – и краткие прилагательные: слышен , заметен и т.п. Пр.: В саду слышен аромат сирени ; В комнате чувствовался запах ладана .
Закадровый пропозитивный план . В предложениях этого плана значение восприятия входит в пресуппозицию, поскольку в них нет глаголов восприятия и субъект восприятия не обозначен, при этом используются глаголы существования или распространения запаха и существительные, обозначающие запах. Пр.: Вода воняла йодом ; Весенний сад благоухал ; На лугу пахнет свежескошенной травой; В кухне стоял запах гари. Такие предложения описала [Золотова, 1982, с. 213-223].
Таким образом, в пропозициях крупного и общего пропозитивного планов субъект обонятельного восприятия эксплицитно выражен, отличие же пропо-зитивных планов друг от друга в том, что восприятие в них представлено либо как целенаправленное действие субъекта, либо как его состояние в отвлечении от действия, в предложениях с объектной перспективой воспринимающий назначается на роль объекта воздействия; в пропозициях дальнего пропозитив-ного плана субъект восприятия не обозначен, само же восприятие выражено возвратными глаголами или краткими прилагательными с семантикой восприятия; в предложениях закадрового пропозитивного плана значение восприятия входит в пресуппозицию.
Т.В. Шмелева предложила понятие текстовой перспективы , которое основывается на мысли о том, что определить «актуальную ценность пропозиции, то есть ее коммуникативный вес , можно обращаясь к шкале коммуникативных весов , фиксирующей соответствие каждому весу определенной формы выражения пропозиции» [Шмелева, 2013, с. 193], где под формой понимается следующее: самостоятельное простое предложение, предикативная единица, входящая в сложносочиненное или сложноподчиненное предложение, «полупредикативная» единица (причастие, деепричастие, инфинитив), свернутая пропозиция (атрибут, актант, сирконстант), невыраженная пропозиция.
Таким образом, наше исследование базируется на следующих идеях:
-
1) семантика обонятельного восприятия может быть выражена разными структурными типами предложений, каждый из которых делает точкой отсчета тот или иной компонент ситуации восприятия;
-
2) структурные типы предложений, репрезентирующих обонятельное восприятие, распределены по четырем пропозитивным планам, различающимся тем, какие аспекты ситуации восприятия рассматриваются в предложении;
-
3) выбор той или иной формы пропозиции формирует текстовую перспективу представления ситуации обонятельного восприятия.
Цель данного исследования – выявить типы синтаксических конструкций, репрезентирующих обонятельное восприятие в повести В.П. Астафьева «Последний поклон», и показать их роль в выстраивании текстовой перспективы, в формировании индивидуально-авторской языковой картины мира.
Материалом исследования послужили предложения, репрезентирующие обонятельное восприятие в повести В.П. Астафьева «Последний поклон».
Основные методы исследования – лингвистический и филологический анализ художественного текста, лексико-семантический анализ, структурно-семантический анализ предложения.
Ситуация обонятельного восприятия содержит следующие компоненты: субъект восприятия, у которого есть орган обоняния и способность к восприятию, объект восприятия, источник запаха. Это полисобытийная ситуация, которая включает наличие и распространение запаха и его восприятие.
Лексика с семантикой обонятельного восприятия, несмотря на то, что составляет незначительную долю в лексиконе «Последнего поклона», играет существенную роль в создании индивидуально-авторской языковой картины мира в этом тексте, где важны все виды чувственного восприятия: зрительное, слуховое, обонятельное, тактильное и вкусовое, – все они создают разные измерения объемного пространства.
Анализ повести «Последний поклон» показал, что в этом тексте представлено следующее количество словоупотреблений одоративной лексики:
-
а) существительные, обозначающие запах: аромат – 9, вонь – 1, гарь – 3, дурманность – 1, дух – 18, духовитость – 2, душина – 2, запах – 56 , смрад – 4, тлен – 1, угар – 3, чад – 7;
-
б) существительные, обозначающие орган обоняния, его части или способность к восприятию запаха: ноздри – 2, нос – 2, нюх – 4;
-
в) глаголы, обозначающие активное, целенаправленное восприятие запаха (действие): внюхиваться – 1, занюхивать – 2, ловить – 1, нюхать – 5, нюхнуть – 1, обнюхать – 2, обнюхиваться – 2, понюхать – 7, принюхаться – 1;
-
г) глаголы, обозначающие результативное восприятие запаха: вынюхать – 2, пронюхивать – 1, уловить – 1, унюхать – 2, чуять – 1;
-
д) деепричастия, образованные от глаголов со значением результативного восприятия запаха: уловив – 1, услыхав – 1;
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
-
е) глаголы, обозначающие наличие запаха: вонять – 5, выветриться – 1, запахнуть – 6, зачадить – 1, пахнуть – 31 , припахивать – 2, пропахнуть – 2, чадить – 3;
-
ж) причастия, характеризующие объект по наличию запаха: воняющий – 3, запахший – 1, пахнущий – 22 , припахивающий – 2, пропахший – 2, свежепахну-щий – 1;
-
з) прилагательные, характеризующие объект по наличию запаха: ароматный – 1, вонючий – 7, дурманный – 1, духовитый – 2, душистый – 4, запашис-тый – 4, пахучий – 2, угарный – 2, удушливый – 2;
-
и) глаголы, обозначающие распространение запаха в пространстве: веять – 1, нести – 2, переть – 1, тянуть – 3;
-
к) причастия, обозначающие существование запаха: наполненный – 1, объятый – 1, пропитанный – 2;
-
л) категория состояния: вонько – 1.
В представленном здесь списке одоративной лексики жирным шрифтом выделены наиболее часто встречающиеся лексемы в «Последнем поклоне»: запах (56 словоупотреблений), пахнуть (31 словоупотребление) и пахнущий (22 словоупотребления). Это свидетельствует о том, что в тексте преобладают объектно ориентированные способы представления ситуации обонятельного восприятия. В коммуникативный фокус автор помещает объект восприятия, субъект же оказывается за кадром высказывания, поскольку из контекста понятно, кто является воспринимающим. Существительное запах в тексте употребляется в разных падежах, выполняя в пропозициях разные актантные роли.
В большинстве рассказов «Последнего поклона» запах представлен как часть среды, значимая, но не самая важная. В предикативных единицах, входящих в сложносочиненные и бессоюзные предложения, пропозиции имеют равный коммуникативный вес. Пр.: Тем временем вечер прошел, в деревне все смолкло, с задов и от моста послышалась гармошка, гуще и чадней сделался запах горящего под ярами навоза, огни бакенов, засвеченные братаном Мишей, пустили тени бегучего света на воду, где-то, еще далеко-далеко, шлепал плицами пароход, пра-вясь на их призывный свет; тупо стукались бревна, обреченно плывущие вдоль боны, спускаемые с Манской запани, сами боны поскрипывали и крякали в ночи дергачами, уже начавшими летовать в лугах, но отсюда, с реки, из-за огорода и домов, неслышимыми… (Пеструха). Здесь зрение, слух и обоняние работают одновременно, причем зрительных и слуховых впечатлений больше, чем одоративных: семантику звучания содержат единицы смолкло , послышалась гармошка , шлепал , тупо стукались , поскрипывали и крякали , неслышимыми ; семы зрительного восприятия входят в презумпцию словоформ и словосочетаний огни бакенов , засвеченные , тени бегучего света , призывный свет , в ночи ; и только в одной предикативной единице дано описание запаха: гуще и чадней сделался запах горящего под ярами навоза .
В повести «Последний поклон» наибольшую значимость семантика запаха и обонятельного восприятия приобретает в рассказах «Запах сена» и «Где-то гремит война».
В рассказе «Запах сена» существительное запах входит в название, выполняя функцию именительного наименования, по терминологии [Золотова, 1988, с. 22], и в простые предложения, занимая позиции темы и ремы: Изба (тема) // полна чужого запаха от собачьих дох (рема) . Но все эти запахи (тема) // забивал сквозной, всюду проникающий запах сена (рема) (Запах сена). Здесь автор использует наиболее эффективные способы усиления значимости семантики запаха, увеличения коммуникативного веса этого смыслового компонента текста.
В рассказе «Где-то гремит война», входящем в третью книгу «Последнего поклона», запаху и обонятельному восприятию уделяется особое внимание, поскольку именно оно помогает главному герою спастись от смерти. На примере этого произведения рассмотрим, каким образом автор создает текстовую перспективу представления запаха и обонятельного восприятия.
Главный герой рассказа Витя, обучающийся во время войны на составителя поездов в Красноярске, получил из родного села письмо от тетки Августы со слезной просьбой навестить ее. Витю отпустили, и он в морозный ветреный зимний день пошел один пешком в родную деревню. В рассказе дано описание этого трудного пути, в котором обоняние играет не последнюю роль. Писатель использует разные типы пропозиций и разные пропозитивные планы, репрезентируя обонятельное восприятие.
Первый раз семантика запаха появляется в рассказе, когда дается описание пальто, которое Вите дал в дорогу однокурсник: Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами (Где-то гремит война). Здесь запах назначен на незначительную роль квалификатива.
В следующем фрагменте значимость обонятельного восприятия повышается: сначала используется крупный пропозитивный план с предикатом обнюхиваться , входящем в сложносочиненное предложение, далее следуют два простых распространенных предложения с закадровым пропозитивным планом: субъект восприятия отодвигается в пресуппозицию, текстовая перспектива смещается на запах, который приобретает наибольший коммуникативный вес: Чужевато мне пальто, да я постепенно обживал его, обнюхивался . Очень оно тяжелое и пахнет разнообразно: табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего – вагонной карболкой . Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина (Там же).
В дороге запах пальто навевает воспоминания о доме бабушки, в сложносочиненном предложении используется закадровый пропозитивный план: Поднял воротник пальто – и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком . Небось сундук был такой же, как у бабушки, где хранились, конфетки-лам-пасейки, весь в жестяных лентах, с генералами и переводными картинками внутри и с таким количеством загадочного добра, что уж и музею иному в зависть такой сундук (Там же).
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)

Идти нужно было через замерзший Енисей, наступила ночь, и одинокий путник потерял дорогу. Витя мог не дойти до родной деревни, мог замерзнуть в дороге, но восприятие, обонятельное и слуховое, помогло выжить: Но нюх и слух мой были еще живы , и живым, неостывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак (Там же).
В дороге хлеб и его запах становятся источником жизни: От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой , смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурею, снегом и железом (Там же).
Запах хлеба приводит главного героя к размышлениям о жизни: В одной книге я вычитал, будто жизнь пахнет розами . «Это было давно и неправда!» – так сказали бы фэзэошники-уркаганы. Такая жизнь, если она и была, так мы в нее не верим. Мы живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь вся пропахла железом и хлебом, тяжким, трудовым хлебом , который надо добывать с боя (Там же).
Здесь закадровый пропозитивный план обонятельного восприятия входит в два сложноподчиненных предложения: сначала в придаточную предикативную единицу, в конце этого фрагмента – в главную, тем самым расставляются смысловые акценты, выстраивается текстовая перспектива, автор сосредоточивает внимание читателя на характеристике тыловой военной жизни фэзэошников.
В ночной темноте Витя провалился меж двух штабелей бревен, с трудом выбрался оттуда, не мог определить, куда ему нужно идти, и только по запаху нашел дорогу: Я поскреб полозницу, заполз в желоб дороги, раскопал темные катышки конских шевяков, понюхал рукавицу . Она пахла назьмом, конским живым назь-мом . Кони прошли по дороге совсем недавно!.. (Там же).
В приведенном выше фрагменте крупный пропозитивный план (целенаправленное обонятельное восприятие) сменяется закадровым пропозитивным планом, где акцент смещается на сам запах. В обоих случаях пропозиции обладают высоким коммуникативным весом, поскольку репрезентированы предикатами простых предложений. Обонятельное восприятие позволило герою рассказа сделать вывод о том, что кони, а следовательно, и люди находятся недалеко, и Витя наконец-то увидел жилье.
Пр.: Ошеломленный видением, запахом жилья, конского назьма, древесного дыма, какое-то время стоял я под ветром и боялся верить себе (Там же). В этом предложении наибольшим коммуникативным весом обладает пропозиция, репрезентирующая психическое состояние главного героя, поскольку именно она выражена предикатом; значение восприятия отходит на второй план, оно представлено в роли актанта – каузатива (причины психического состояния субъекта), входящего в причастный оборот.
Витя сомневается в реальности своего восприятия, но сильный запах подтверждает его реальность: Поблазнило мне: и огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо било запахом назьма, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашел то, чего искал (Там же). Во втором предложении представлен общий пропозитивный план обонятельного восприятия, его интенсивность выражена дважды употребленным предикатом било.
Значение запаха в спасении главного героя описано в следующем фрагменте рассказа: Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма (1), что сверлил мне ноздри (2), густым дегтем плыл мне в горло (3), я перестал бы карабкаться по глухой стене избушки, расчерченной снегом в пазах. Я бы плюхнулся в снег и уснул (Там же). Пропозиции, репрезентирующие запах и его восприятие, здесь входят в придаточные предикативные единицы, однако их коммуникативный вес высок, это достигается за счет того, что запах репрезентирован трижды (нумерация этих пропозиций дана в скобках), а также за счет ярких метафор ( сверлил ноздри, плыл в горло ) и сравнения ( густым дегтем ).
После рассмотренного фрагмента в тексте «Последнего поклона» следует абзац, в котором представлен образ родного дома, объединяющий разные перцептивные модальности: зрительную, слуховую, обонятельную и тактильную: Но беспокойным флагом метался дым над землею и напоминал все только живое, теплое: субботнюю баню с легким угаром <…> ключевую, зуб ломящую воду, печку русскую с тихим, верным теплом; вороватый шорох тараканов <…> кисловато-умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух паренок из кути <…> (Там же). Здесь запах как объект восприятия стоит в одном ряду с объектами других органов чувств. И конечно, в «Последнем поклоне», как и во многих русских текстах, преобладают зрительные и слуховые образы.
Но в рассматриваемом в этой статье рассказе «Где-то гремит война» далее следует абзац, в котором семантика запаха приобретает текстообразующее значение, становясь главной темой фрагмента текста: Запах дыма ! Привычный с детства, до того привычный, что перестаешь его замечать. Порой и досадуешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней и слаще дыма. Нет. Где дым – там огонь! Где огонь – там люди. Где люди – там жизнь!.. (Там же).
Здесь запах представлен в виде именительного темы (это единственный пример в повести), привычный запах дыма становится символом жизни и родины, что является аллюзией к поэме А.С. Грибоедова «Горе от ума», где процитировано стихотворение Г.Р. Державина «Арфа», отсылающего читателя к мысли Гомера о сладости дыма отечества (см.: [Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений, 2003]).
Таким образом, в рассказе «Где-то гремит война» значение обонятельного восприятия важно для формирования сюжета: обоняние помогает главному герою остаться в живых, семантика запаха имеет текстообразующее значение, запахи хлеба и дыма становятся символами жизни. Автор использует все типы пропозитивных планов: крупный, общий, дальний и закадровый – в построении текста; с помощью разных синтаксических конструкций повышает или понижает
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 3 (28)
коммуникативный вес пропозиций обонятельного восприятия, выстраивая тем самым текстовую перспективу. Кроме того, значимость семантики обонятельного восприятия создается с помощью обращения к прецедентным текстам.
Список литературы Синтаксис обонятельного восприятия в повести В.П. Астафьева "Последний поклон"
- Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. Красноярск: Офсет, 1997. Т. 4: Последний поклон: повесть в рассказах. Кн. 1, 2. 464 с.
- Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. Красноярск: Офсет, 1997. Т. 5: Последний поклон: повесть в рассказах. Кн. 3. 384 с.
- Васильева С.П., Коняшкин А.А. Аналитические конструкции разговорного синтаксиса в идиостиле рассказов В.М. Шукшина // Сибирский филологический форум. 2023. № 4 (25). С. 4-13. DOI: 10.24412/2587-7844-2023-4-4-16
- Гончаров П.А., Романцова А.А. Природа Сибири в произведениях В.П. Астафьева // Наука и образование. 2023. Т. 6, № 2.
- Зверев В.В. «Последний поклон» В.П. Астафьева и основы крестьянского мира // Крестьяноведение. 2020. Т. 5, № 4. С. 142-161.
- Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Наука, 1982. 368 с.
- Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М.: Наука, 1988. 440 с.
- Медведева Т.П. Астафьеведение последнего десятилетия (обзор литературы) // Литература и культура Сибири: прошлое, настоящее и горизонты изучения: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 29-30 апреля 2021 г. Красноярск: ГУНБ, 2022. С. 61-68.
- Ревенко И.В. Когнитивные признаки концепта «Война» в произведениях В.П. Астафьева // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сб. науч. ст. 2017. Т. 8, № 8. С. 169-174.
- Ревенко И.В. Реализация составляющих концепта «Дом» в «Последнем поклоне» В.П. Астафьева // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 4 (42). С. 168-177.
- Сальникова В.В. Лексика запахов и звуков в автобиографической повести В. Астафьева «Последний поклон»: лингвокультурологический аспект // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 6 (49). С. 380-382.
- Самотик Л.Г. Проблемы экологии в произведениях В.П. Астафьева разных периодов творчества // Литература и культура Сибири: прошлое, настоящее и горизонты изучения: материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 29-30 апреля 2021 г. Красноярск: ГУНБ, 2022. С. 96-107.
- Фадеева Т.М. Одорические сложные эпитеты русского языка // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2013. № 4-1. С. 100-104.
- Фельде О.В. Образная составляющая концепта «жизнь» в индивидуальной языковой картине мира В.П. Астафьева (на материале произведений пермского и вологодского периодов) // Юбилейные Астафьевские чтения «Писатель и его эпоха». 28-30 апреля 2009 г. Красноярск, 2009. С. 212-220.
- Шмелева Т.В. Коммуникативный вес пропозиции // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2013. № 5. С. 189-198.
- Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. 2003. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/988/%D0%98 (дата обращения: 05.09.2024).