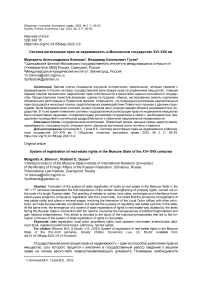Система регистрации прав на недвижимость в Московском государстве XVI-XVII вв
Автор: Блинова Маргарита Александровна, Гусев Владимир Евгеньевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3, 2022 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена изучению исторических предпосылок, которые привели к формированию в России системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, ставшей первым опытом письменного закрепления прав собственности в масштабах единого российского государства. Предоставление поместий дворянам, сделки по продаже, обмену, наследованию земель подлежали обязательной регистрации в Поместном приказе. Отмечается, что процедура регистрации имущественных прав проходила в несколько этапов, предполагавших взаимодействие Поместного приказа с другими структурами, была бюрократически сложной, однако служила цели упорядочивания оборота недвижимости в государстве. В то же время появление системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество было продиктовано задачами, стоявшими перед российским государством в связи с необходимостью преодоления последствий политической раздробленности и обретения национальной независимости.
Государственная регистрация, поместный приказ, вещные права, кадастр земли, недвижимость, писцовые книги, отказные книги, записные вотчинные книги, вотчина, поместье
Короткий адрес: https://sciup.org/149140174
IDR: 149140174 | УДК: 340.15
Текст научной статьи Система регистрации прав на недвижимость в Московском государстве XVI-XVII вв
укрепления вещных прав прослеживается в истории развития права у различных народов еще с глубокой древности. Так, при заключении сделок с имуществом применялись магические ритуалы, практиковалось произнесение специальных формул и т.п., тем самым подчеркивался публичный и обязательный характер совершаемых юридических действий (Станиславский, 1842: 42–90).
Государственная регистрация прав на недвижимость, демонстрирующая укрепление, защиту вещных отношений со стороны государства, вряд ли была возможна в условиях слабости государственного аппарата в период Киевской Руси и последующей политической раздробленности ее территории. Вместе с тем статья 104 Псковской судной грамоты, определявшая порядок разрешения дела в суде, когда на одну и ту же недвижимость предъявляли иски сразу несколько кредиторов, демонстрировала недостаточную защищенность прав залогодержателей и настоятельную необходимость введения государственного контроля за оборотом недвижимости (Блинова, 2019: 44–45).
Процессы объединения русских земель вокруг Москвы, образования сильного централизованного государства создали реальные условия для формирования государственной системы регистрации прав на недвижимое имущество. Вместе с тем ее возникновение неотделимо от тех политических и социально-экономических процессов, которые переживало русское государство в эпоху объединения земель и завоевания национальной независимости. Здесь необходимо остановиться на некоторых особенностях развития владельческих прав на землю в период Московского государства.
Еще с древнейших времен сохранялся такой тип землевладения, как вотчина, не обремененный до середины XVI века обязательной службой ее владельца. Как отмечал В.О. Ключевский, в удельный период служебные обязанности были обособлены от владельческих прав. Собственники вотчин могли покинуть удельного князя, перейти на службу к другому князю, их вотчинные права при этом не утрачивались (Ключевский, 1912: 282–283). По словам С.В. Рождественского, «в удельную эпоху служила не земля, она только несла тягло, служили лица» (Рождественский, 1897: 48).
Однако задачи объединения страны, достижения национальной независимости, противостояние с Золотой Ордой и ее преемниками, Польско-Литовским государством настоятельно требовали создания многочисленной армии, что в итоге привело к формированию поместной системы, сопровождавшейся раздачей государством населенных крестьянами земель служилым людям при условии несения службы, главным образом – военной. Если в XIV – первой половине XV века служилое землевладение, как отмечал С.В. Рождественский, находилось еще в стадии становления – в документах того времени встречаются только отдельные упоминания о нем (Рождественский, 1897: 29–36), то во второй половине XV столетия, при Иване III, когда наступил решающий этап объединения страны и окончательного свержения ордынского ига, формирование поместной системы приобрело особый размах. Государство, нуждавшееся в боеспособной армии, пошло по пути массовой раздачи поместных земель служилым людям. В данный период, как отмечает В.О. Ключевский, поместное землевладение «складывается в стройную и сложную систему, вырабатываются точные правила испомещения, раздачи земель в поместное владение» (Ключевский, 1912: 284). Примером подобных массовых пожалований служит испомещение на основании царского указа 1550 года под Москвой свыше тысячи детей боярских, дворовых и городовых помещиков, которым было пожаловано 112 600 четей земли1.
Массовому наделению поместной землей служилых людей способствовало также стремительное расширение территории Московского государства со второй половины XV века и увеличение таким образом фонда поместной земли. С присоединением тех или иных территорий вслед за войском московского государя шли писцы описывать приобретенные земли. Исследователи склоняются к тому, что составление писцовых книг началось с похода Ивана III на Новгород в 1477 году, который привел к массовой конфискации земель новгородских землевладельцев и перемещению на их место московских служилых людей. Данный процесс сопровождался тщательной фиксацией в писцовых книгах деревень, волостей, имен владельцев поместий и вотчин, размеров владений, сведений о проживающих на данной земле лиц, размере оброка и т.п.2 С 30-х гг. XVI в. составление подобных описаний в Московском государстве уже охватывало всю территорию страны. Писцовые книги служили важным источником информации о принадлежности вотчин и поместий, что имело большее значение, когда решался вопрос о наделении того или иного служилого лица поместьем, а также во время земельных споров как между вотчинниками, так и между помещиками.
В условиях общей тенденции развития служилого землевладения государство пошло по пути ограничения владельческих прав вотчинников. В первую очередь это касалось родовых и жалованных вотчин. Цель таких действий состояла в том, чтобы не только заставить служить вотчинников, но и возложить государеву службу на вотчинные земли. Ряд указов (1550–1551 гг. и др.) ограничил переход вотчинных земель в собственность церкви вследствие купли-продажи, залога, передачи на помин души1. В 1556 году, как свидетельствует летописание, Иван Грозный возложил службу на все земельные владения, установив единые требования: с каждых 100 четей доброй пахотной земли должен явиться на службу один воин – «на коне, в доспесе полном»2. Лица, владевшие вотчинами и поместьями большего размера, обязаны были выставить дополнительное число воинов.
По приговору царя и Боярской думы 1562 года служилым князьям, т.е. зависимым от московского государя, запрещалось свои старинные вотчины продавать, менять, отдавать в качестве приданого за своими дочерьми и сестрами3. При отсутствии прямых наследников мужского пола недвижимое имущество после смерти князя отходило царю4. В 1572 году по очередному боярскому приговору данный принцип был распространен не только на старинные родовые вотчины князей и бояр, но и на жалованные земли. В приговоре был четко сформулирован интерес государства: «чтоб в службе убытка не было, и земля б из службы не выходила»5. Таким образом, государство стремилось установить контроль над всеми землями, с которых могла бы осуществляться служба. Отныне наделение дворян и боярства поместьями и жалованными вотчинами, передача земельных владений по наследству, сделки в отношении вотчин и, в некоторые случаях, поместьев – все это в интересах государственной службы должно было непременно фиксироваться, что в результате привело к формированию системы государственной регистрации прав на недвижимость.
До возникновения специального ведомства, на которое были возложены функции учета служилого землевладения, данные обязанности осуществляли дьяки московского государя, о которых сохранились сведения с конца XV века (Чернов, 1957: 194–195). В актах второй половины XVI века встречаются упоминания о так называемой Поместной избе, которая в начале XVII века стала именоваться Поместным приказом.
С какого момента сделки с недвижимостью стали регистрироваться в Поместной избе, точно неизвестно, однако в боярском приговоре 1572 года содержалось упоминание о том, что сделки с вотчинами фиксировались Поместной избой6. Во второй половине XVI века Поместной избой велась уже большая работа по составлению писцовых, записных и прочих книг. Об этом свидетельствует царский указ от 10 февраля 1618 года о восстановлении правоустанавливающих документов на вотчины – купчих, духовных завещаний «и всяких вотчинных крепостей», утерянных всякими чинами в период московского разорения – на основании записных, писцовых и прочих книг Поместного приказа7. Большой урон документам Поместного приказа нанес пожар 1626 года, уничтоживший значительную часть книг предшествовавшего периода, но даже по сохранившимся материалам мы можем судить о размахе деятельности данного ведомства8 (Шумаков, 1910). Ю.А. Тихонов отмечал громадные размеры делопроизводства Поместного приказа, по количеству подьячих ведомство занимало первое место среди царских учреждений (Тихонов, 1970: 143).
Приказное делопроизводство включало прием челобитных, снятие копий, составление выписей, а самое главное, составление записных вотчинных книг, в которых фиксировался факт перехода прав на вотчину вследствие сделки, также выполнялось оформление документов, связанных с подготовкой отказных книг, отражавших возникновение прав на поместья, которыми наделялись служилые люди в соответствии с поместным окладом. Делопроизводство начиналось с подачи заинтересованными лицами челобитных, которые принимались по «столам», закрепленным за определенной территорией. Каждый стол обязан был вести записные челобитные книги за приписями подьячих. За неправильное принятие прошений во избежание различных злоупотреблений подьячих били кнутом и наказывали ссылкой в Сибирь (Чернов, 1957: 242).
Важное положение относительно обязанности собственников фиксировать сделки с вотчинами в Поместном приказе было включено в Соборное уложение 1649 года. В статье 34 главы XVII четко было указано: если на одну и ту же недвижимую собственность будут предъявлены две купчие, приоритет имеет та, которая была оформлена в Поместном приказе1. Тем самым фактически утверждался следующий принцип: право собственности переходит к владельцу с момента регистрации сделки, а не ее заключения.
Челобитные относительно оформления владельческих прав на вотчины подавались в Поместный приказ наряду с различными подтверждающими документами – купчими, меновыми, закладными, духовными грамотами и т.п., – о чем делалась соответствующая запись2. Приказные служащие далее осуществляли проверку владельческих прав на основании имеющихся в Приказе документов, например, делали выписки из писцовых книг, содержавшие сведения о землях и их владельцах. Если рассматривалось дело об оформлении вотчины по просроченной кабале за кредитором, дополнительно требовалось решение Судного приказа, подтверждающее неуплату долга3. Первоначально процедура оформления включала непременный допрос заинтересованных лиц – продавцов, залогодателей. В 1682 году для оформления перехода прав достаточно было подписей продавцов, залогодателей на крепостных актах (Шитова, 2014: 81). По результатам дела ставилась помета должностным лицом – дьяком Поместного приказа – о записи вотчины за новым владельцем и взимании пошлины.
Гораздо более сложной была процедура оформления прав на поместья, которыми наделялись служилые люди, а в некоторых случаях и члены их семей, в соответствии с поместным окладом, размер которого зависел от чина служилого человека. В XVI–XVII вв. возможности распоряжения поместьем были весьма ограничены: в соответствии с принципом «чтобы земля из службы не выходила» купля-продажа, залог поместий были прямо запрещены Соборным уложением. Однако разрешалась мена поместьями, обмен поместья на вотчину, сдача поместья другому лицу, получение имения в качестве наследства совершеннолетними сыновьями при условии несения службы, получение части имения вдовами и дочерями дворян на «прожиток», передача его новому владельцу в качестве приданого жены при условии несения службы с поместья. Переход владельческих прав при этом происходил с разрешения государя и требовал обязательного оформления в Поместном приказе.
После регистрации челобитной, содержащей просьбу о наделении землей, подьячие осуществляли предварительную проверку требований просителя: делали необходимые выписки о челобитчиках и землях, указанных в челобитных, обращались с запросами в Разрядный приказ относительно служебного положения челобитчиков, их окладов, земельных владений. Обязательно сверялись данные о землях, указанных в челобитных, с писцовыми книгами Поместного приказа, содержавшими описания земель. Иногда с запросами подьячие обращались в территориальные приказы – так называемые четверти, в ведении которых находились земли, указанные в челобитных служилых людей. Далее происходил вызов челобитчиков, во время допроса сказанное ими сопоставлялось с полученными сведениями, которые служили основанием для составления приказными так называемых «выписей», в которых указывалось существо дела, источники сведений. После тщательной подготовительной работы дело передавалось «на доклад» государю, в случае положительного решения в уезды воеводам и местным приказным служащим направлялись грамоты о проведении «сыска и меры» указанных земель: найти просимые земли, установить их принадлежность, размеры и т.п. Данная процедура местными должностными людьми осуществлялась посредством так называемого повального обыска – опроса максимально возможного числа людей относительно искомых земель и их владельцев4.
По результатам «сыска и меры», которые фиксировались в особых сыскных и мерных книгах, дело из Поместного приказа снова направлялось на доклад царю. В случае удовлетворения просьбы челобитчика делалась помета – «дать приговор и по сыску отказать» земли служилому человеку (Павлов-Сильванский, 1963: 157–158). В уездные приказные избы отправлялись грамоты об «отказе» служилому человеку просимых земель, на месте составлялись отказные книги, фиксировавшие передачу поместья челобитчику. Факт отказа фиксировался должностным лицом и непременно в присутствии свидетелей (понятых)5.
Несмотря на то, что процедура отказа была строго формализованной, иногда происходили различные нарушения правил как на местах, так и в самом Поместном приказе. Подобный случай был описан В.И. Холмогоровым, когда один воевода произвел отказ своему приятелю в съезжей избе, а не в имении, предназначенном к отказу. При выявлении подобных случаев делопроизводство начиналось заново (Холмогоров, 1900: 71).
Отказные книги фиксировали не только факт первичного наделения дворянина поместной землей, но и переход вещных прав вследствие мены поместьями, наследования поместья совершеннолетними сыновьями, боковыми наследниками, выделения прожитка вдовам и дочерям. После проведения акта отказа или оформления вотчинных прав в Поместном приказе челобитчикам от имени государя выдавались ввозные грамоты на земли, содержавшие информацию о землях, закреплявшихся за вотчинником или помещиком, а также предписание крестьянам повиноваться новому владельцу.
Сложившаяся в период Московского государства система регистрации владельческих прав просуществовала вплоть до петровских преобразований, когда Поместный приказ был упразднен, а его функции перешли Вотчинной коллегии. В 1775 году в результате губернской реформы Екатерины II обязанность регистрации сделок с недвижимостью была возложена на губернские судебные палаты гражданского суда и уездные суды.
Таким образом, возникшая в период Московского государства централизованная система регистрации прав на вотчины и поместья была первым опытом укрепления прав на недвижимое имущество при непосредственном участии государства. Конечно, сложная бюрократическая процедура регистрации вещных прав неизбежно сдерживала развитие оборота недвижимости. Однако, как отмечал русский правовед К.П. Победоносцев, данная система несла в себе «разумное начало порядка и достоверности землевладения» (Победоносцев, 2002: 332).
Список литературы Система регистрации прав на недвижимость в Московском государстве XVI-XVII вв
- Блинова М.А. К вопросу о становлении залога в Древней Руси // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 6 (71). С. 42-46. https://doi.org/10.24158/pep.2019.6.7
- Ключевский В.О. Курс русской истории : в 4 частях. М., 1912. Ч. 2. 516 с.
- Павлов-Сильванский В.Б. Источники и состав отказных книг Поместного приказа // Археографический ежегодник за 1962 год. М., 1963. С. 156-165.
- Победоносцев К.П. Курс гражданского права : в 3 частях. Часть 1: Вотчинные права. М., 2002. 800 с.
- Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. СПб., 1897. 404 с.
- Станиславский А.Г. Об актах укрепления прав на имущества. Казань, 1842. 154 с.
- Тихонов Ю.А. Отписные и отказные книги Поместного приказа как источник о боярских и дворянских владениях Московского уезда XVII - начала XVIII в. // Археографический ежегодник за 1968 год. М., 1970. С. 142-153.
- Холмогоров В.И. Об «Отказных книгах» // Древности : труды Археографической комиссии Императорского мос-ковскаго археологического общества : в 24 т. М., 1900. Т. 2. С. 69-72.
- Чернов А.В. К истории Поместного приказа (внутреннее устройство приказа в XVII в.) // Труды Московского историко-архивного института. М., 1957. С. 194-250.
- Шитова Е.А. Основания возникновения и прекращения вещных прав в Московском царстве в XVI-XVII веках (на примере вотчин и поместий). М., 2014. 224 с.
- Шумаков С.А. Экскурсы по истории Поместного приказа. М., 1910. 80 с.