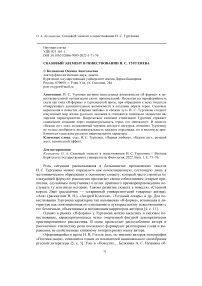Сказовый элемент в повествовании И. С. Тургенева
Автор: Колмакова Оксана Анатольевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
И. С. Тургенев активно использовал возможности «Я-формы» в повествовательной организации своих произведений. Несмотря на периферийность сказа как типа «Я-формы» в тургеневской прозе, при обращении к нему писатель обнаруживает дополнительные возможности в создании образа героя. Сказовые вкрапления в повестях «Первая любовь» и «Бежин луг» И. С. Тургенева создают озвученный мир жизни русского человека и становятся значимым элементом авторской характерологии. Посредством сказовой стилизации Тургенев отражает социальное сознание через индивидуальность героя, его менталитет. В повести «Бежин луг» сказ, осложненный чертами детского дискурса, позволил Тургеневу не только изобразить индивидуальность каждого персонажа, но и вплотную приблизиться к разгадке русского национального характера.
Сказ, и. с. тургенев, "первая любовь", "бежин луг", речевой жест, комический эффект
Короткий адрес: https://sciup.org/148324134
IDR: 148324134 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Сказовый элемент в повествовании И. С. Тургенева
Роль ситуации рассказывания в большинстве прозаических текстов И. С. Тургенева можно определить как композиционную, состоящую лишь в метонимическом обрамлении к основному сюжету, который часто строится по следующей формуле: рассказчик предлагает своим собеседникам (старым приятелям, случайным попутчикам) в целях приятного времяпрепровождения послушать ту или иную историю. Таково развитие сюжета в повестях «Степной король Лир» (рассказчик — «старинный университетский товарищ» автора), «Ася» (рассказчик Н. Н.), «Андрей Колосов», «Уездный лекарь» и др. Для повествования Тургенева характерна так называемая «Я-форма», возникшая в литературе как оппозиционная по отношению к аукториальному повествованию с его безличным, объективным и всезнающим нарратором-автором [4, с. 11].
Однако в рамках «Я-формы» у Тургенева можно выделить и сказовое повествование, характеризующееся четко очерченной фигурой демократически ориентированного рассказчика. В сказе происходит расподобление автора и рассказчика: стилистику речи последнего формируют разговорные слова и выражения, не свойственные книжному литературному языку автора.
Оформившийся в прозе Н. В. Гоголя сказ, по мнению авторов монографии «Поэтика сказа», становится одним из показателей национального своеобразия русской литературы [5, с. 5]. Уже в «Повестях… Белкина» А. С. Пушкина об- наруживается соотношение сказовых вкраплений и «Я-повествования» в рамках единой художественной структуры. Сказ организует монологи Самсона Вырина и полковника И. Л. П. Роль Белкина как стилистической инстанции нивелируется, и на первом плане оказываются характеры героев, созданные посредством стилизации устной речи той среды, которую они представляют. Их голоса особенно отчетливо слышны на фоне нормативного книжного языка нарратора-автора.
Общеизвестно отношение Тургенева к языку, его следование пушкинской традиции: писатель избегал пышных метафор, устаревших «красивых» слов, чуждых живой современной речи. В рассказе «Стук… стук… стук» Тургенев иронизировал над вычурностью языка романтиков. Однако традициям А. С. Пушкина Тургенев следует и в том, что характерологичность повествования в некоторых его произведениях создается за счет отделения носителя устной речи от автора, использующего книжное слово. В качестве примеров сказа как «формы сложной комбинации приемов устного, разговорного и письменнокнижного монологического речеведения» [2, с. 35] можно обратиться к повестям «Первая любовь» и «Бежин луг».
На первый взгляд, повесть «Первая любовь» представляет собой традиционный для Тургенева сюжет — «история, рассказанная героем». Однако, в отличие от «Степного короля Лира», читатель не возвращается в ту обстановку, в которой начался рассказ, т. е. повествование героя не заключается в рамки авторского. Таким образом акцентируется внимание читателя не столько на истории, «чувстве испытанном», сколько на образе рассказчика, на слове, им сказанном.
Кроме того, в данной повести отчетливо прослеживается характерная для сказа конкуренция разговорного и книжного стилей. Стилизация разговорной речи создается посредством использования разговорной лексики: «В тесной и неопрятной передней флигелька встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета лицом, свиными, угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки…» [6, с. 58]; или «Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, “канючила”, но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле» [6, с. 66]; или «Лицо Малевского приняло на миг жидовское выражение» [6, с. 94] и т. д.
Тургенев использует характерный для сказа прием передачи «чужой» речи: «Я делал, что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал “как бомба” (comme une bombe) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице целыми днями валялся на постели» [6, с. 54]; «Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетасовавши карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин “имел честь его поздравить”» [6, с. 71]. При передаче содержания письма матери Зинаиды герой намеренно сохраняет его орфографию: «Я квам обращаюсь как благородная дама хблагородной даме, и при том мне преятно воспользоватца сим случаем» [6, с. 57]. «Чужое» слово в данных примерах является речевым жестом, маркером сказового повествования.
К пушкинской традиции сказового монолога Тургенев прибегает в повести «Бежин луг». В монологах Ильюши и Кости про домовых, леших и мертвецов последовательно воспроизведена сказовая ситуация. Жанр рассказываемых ими историй — суеверный мифологический рассказ — возрождает у Тургенева традицию гоголевского фольклорного сказа («Заколдованное место», «Вечер накануне Ивана Купалы», «Пропавшая грамота»).
Своим рассказчикам Тургенев дает не только яркие портретные, но прежде всего речевые характеристики. Так, первый монолог Ильюши содержит повторяющиеся синтаксические конструкции: «…Пришлось нам с братом Авдюш-кой, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки…» [7, с. 14]. Монотонность повтора, однотипный жест, как бы «нагнетающий ужас», подготавливает слушателей к встрече с «потусторонними силами» — с домовым.
Для создания речевого облика персонажей Тургенев использует дискурси-вы, характерные для живой, неподготовленной речи. У Ильюши, который лучше всех знает сельские поверья и осознает свою большую значимость по сравнению с другими ребятами, дискурсивом является «солидное» сочетание союзов «но а»: «но а пришлось нам в рольне заночевать… Вот мы остались и лежим все вместе™ как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежа-ли-то мы внизу, а заходил наверху, у колеса™ вода вдруг как зашумит, зашумит; застучит колесо, завертится, но а заставки у дворца -то спущены™» [7, с. 14-15]. Описывая внешность Ильюши, Тургенев акцентирует внимание именно на «взрослом» выражении его лица — «какой-то тупой, болезненной заботливости». Кроме того, стечение гласных в сочетании союзов «но а» создает режущее для уха русского человека зияние, и это неблагозвучие выражает авторскую иронию по отношению к Ильюше.
Если речь Ильюши маркирована «взрослым» «но а», то в речи маленького, «тщедушного» Кости в качестве дискурсива выступает «уменьшительно -ласкательное» «братцы мои»: «Вы знаете Гаврилу, слободского плотника?.. Вот отчего он такой невеселый: пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он, да и заблудился; зашел, бог знает куды зашел™ Уж ходил он, ходил, братцы мои, - нет! Не может найти дороги™ Глядит: а перед ним на ветке русалка сидит™ и его к себе зовет. А месяц -то светит сильно, явственно светит месяц - все, братцы мои, видно. Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет…» [7, с. 16].
Тургенев предлагает читателю включиться в своеобразную игру, когда не поясняет, кому из мальчиков принадлежит реплика-ответ на вопрос Феди: «А правда ли, что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?». Однако внимательный читатель легко догадается, что Феде ответил именно Ильюша: «С тех пор… Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил…» [7, с. 28]. Так, одно произнесенное героем слово способно сказать больше, чем самая глубокая психологическая характеристика автора! Поместить «Записки охотника» в русло физиологического очерка по- мешала именно полнота образов героев, их пластичность, созданная во многом звучащим словом.
Сопоставляя сказовые монологи Илюши и Кости, можно обратить внимание на то, что Илюша воспроизводит только фольклорный сюжет: «про домового», «про мертвеца» и др. Косте же удается иногда передать сам фольклорный стиль, т. е. проявить актерский талант. Так, в Костином монологе про утонувшего мальчика Васю и его мать Феклисту отчетливо слышится стилистика фольклорного плача: «Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то все такую песенку певал, — вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится» [7, с. 28–29].
Сказовое повествование Тургенева представляет собой сложную структуру, поскольку стилистика разговорной речи героев совмещается со спецификой детского дискурса. Особенности детского стиля услышаны и блестяще воспроизведены Тургеневым: мальчики используют детское слово-маркер «тятенька»; их монологам присуща избыточная серьезность изложения, а также обращение к «чужому», более авторитетному слову старших. Последнее становится предметом иронии автора: «Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила; говорит: “Ступай, мол, Ермил, на пошту”. Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то. Так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял…» [7, с. 19]. Ясно, что характеристика Ермила как «хорошего» услышана Ильюшей от взрослых, относящихся к близкому кругу Ермила и оценивающих его подобным образом отнюдь не за профессиональные качества. Помещенная в новый контекст в монологе Ильюши, эта характеристика иллюстрирует авторское ироническое отношение к герою и добавляет комизма образу мальчика.
Примечательно, что «чужое» слово, используемое другим героем, Павлушей, выражает уже авторскую симпатию к этому герою. Монолог Павлуши предваряет рассказ Ильюши об антихристе Тришке: «Эвто будет такой человек удивительный, — с жаром говорит Ильюша, — который придет; а придет он, такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет… Уж такой он будет удивительный лукавый человек». «Вот его-то и ждали у нас…, — продолжал Павел своим неторопливым голосом. — Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная… Все как крикнут: “Ой, Тришка!..” Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел» [7, с. 23–24].
Сказовый элемент в повестях «Первая любовь» и «Бежин луг» является у И. С. Тургенева одним из способов изображения внутреннего мира героя через формы его речевого сознания. Выбор данной повествовательной стратегии позволил писателю изобразить русский народный характер в целом и специфические черты личности каждого персонажа в отдельности.
Список литературы Сказовый элемент в повествовании И. С. Тургенева
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979. 424 с. Текст: непосредственный.
- Виноградов В. В. Проблемы русской стилистики. Москва: Высш. школа, 1981. 320 с. Текст: непосредственный.
- Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской литературе Х1Х-ХХ веков. Москва: Изд-во Ин-та русского языка РАН, 1994. 336 с. Текст: непосредственный.
- Манн Ю. Автор и повествование // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1991. № 1. С. 3-19. Текст: непосредственный.
- Мущенко Е. Г., Скобелев В. П., Кройчик Л. Е. Поэтика сказа. Воронеж: Изд -во Воронежского ун-та, 1978. 287 с. Текст: непосредственный.
- Тургенев И. С. Первая любовь: повести. Москва: Худож. лит., 1981. 112 с. Текст: непосредственный.
- Тургенев И. С. Повести и рассказы. Москва: Худож. лит., 1990. 232 с. Текст: непосредственный.
- Тынянов Ю. H. Литературное сегодня // Тынянов Ю. Н. Поэтика. Теория литературы. Кино. Москва: Наука, 1977. С. 150-166. Текст: непосредственный.
- Чудаков А. П., Чудакова М. О. Сказ [тип повествования] // Краткая литературная энциклопедия / главный редактор А. А. Сурков. Т. 6: Присказка - "Советская Россия". 1971. Москва: Сов. энцикл., 1962-1978. С. 876-877. Текст: непосредственный.
- Шмид В. Нарратология. Москва: Языки славянской культуры, 2003. 312 с. Текст: непосредственный.