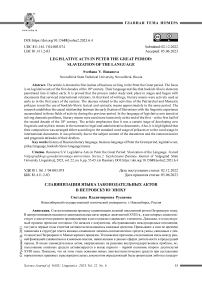Славянизация языка законодательных актов в петровскую эпоху
Автор: Русанова С.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 6 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена процессу славянизации деловой письменной речи в Петровскую эпоху. В центре внимания находятся законодательные акты первых десятилетий XVIII в., язык которых свидетельствует о достаточно раннем проникновении в него книжно-славянских элементов. Доказано, что исследуемый процесс проходил поэтапно. Он начался с документов, обслуживающих международные отношения, где уже в первые годы столетия активно использовались книжные средства. Примыкают к ним по времени появления в структуре текста книжно-славянских лексико-синтаксических средств указы, связанные с деятельностью Патриарших и Монастырского приказов. Установлена причинно-следственная связь между ранней фиксацией славянизмов и языковым опытом, накопленным в данных сферах деятельности в предыдущий период. В языке законодательных актов, направленных на решение внутригосударственных проблем, использование книжных средств активизируется в конце первого - первой половине второго десятилетия XVIII века. Показано, что на этом этапе освоения новых лингвостилистических средств при составлении нормативных правовых и распорядительных документов определяющей была ориентация либо на стандартный приказный узус, либо на узус международных документов, что обусловливалось в первую очередь предметным содержанием документов и коммуникативно-прагматическими установками их составителей.
История русского литературного языка, деловой язык петровской эпохи, законодательный акт, приказный язык, книжно-славянские языковые средства
Короткий адрес: https://sciup.org/149145103
IDR: 149145103 | УДК: 811.161.1'04:003.074 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2023.6.4
Текст научной статьи Славянизация языка законодательных актов в петровскую эпоху
DOI:
Важным отличием делового языка XVIII в. от приказного языка предыдущей эпохи является его славянизация, то есть включение в него церковнославянских элементов, свидетельствующее о сближении делового языка с книжно-славянской языковой письменной традицией, что обусловлено общими процессами преобразования культурно-языковой ситуации. В.М. Живов пишет, что в новых условиях, когда «литературность текста перестает связываться с признаками книжности и целиком определяется его культурными функциями» [Живов, 1996, с. 122], становится возможной «экстраполяция литературного языка нового типа на те сферы, которые первоначально были вне пределов его функционирования» [Живов, 1996, с. 123]. Одной из таких сфер была духовная словесность, другой – законодательство и делопроизводство.
Активное исследование региональных документов XVIII в. позволило определить основной набор славянизмов, служащих для создания особого канцелярского слога. Среди них в первую очередь выделяются указательные местоимения, служебные слова, «прономинализованные» прилагательные и причастия как важнейшие средства синтаксической организации текста ( оной , сей , понеже , дабы , егда , вышепоказанный , преж-дереченный и др.) [Майоров, 2006, с. 75, 93]; отдельные конструкции, предложно-падежные формы и книжные флексии (« да +презенс глагола», по + N3, по + N6, ради + N2 и др.) [Кудрявцева, 2007, с. 13]; словообразовательные средства и словообразовательные модели ( воз- / вз- , из- , -ость , -ниj- , -ств- ) [Майоров, 2018, с. 27].
Усвоение официально-деловым языком книжных форм традиционно связывается с распорядительной документацией [Майоров, 2006, с. 75], что представляется логичным, так как мотивируется установкой Петра Великого регламентировать указами любые реформаторские начинания. Применение книжных средств в документах распорядительного характера в дальнейшем становится образцом для других жанров, поскольку писцы местных канцелярий и присутствий ориентировались на язык рассылаемых во все концы Российской империи указов и манифестов [Майоров, 2006, с. 75].
Функционирование славянизмов в канцелярском делопроизводстве, безусловно, началось с законодательных актов Петровской эпохи, что подтверждают дошедшие до нас документы. Поэтапный характер проникновения книжных средств в сферу делового письменного узуса связывается прежде всего с противопоставлением распорядительнодирективных актов, в которых указанный процесс активизировался в первой половине XVIII в., и остальных жанров деловой письменности, в которых книжно-славянские элементы в качестве нормативных стилистических средств распространяются во второй половине столетия. Однако подробно процесс славянизации законодательных актов Петровской эпохи не изучался. Открытыми остаются вопросы о наличии закономерности и последовательности в данном процессе, что определяет актуальность настоящего исследования.
Материал и методы
Материалом исследования послужили документы первых десятилетий XVIII в. из «Полного собрания законодательных актов Российской империи» (ПСЗ, т. 4–6).
В работе применяются методы лингвистического наблюдения и описания, приемы контекстуального и сравнительного анализа, позволяющие систематизировать документы с учетом использования в их оформлении книжных средств и влияния на исследуемый процесс коммуникативно-прагматических и жанрово-стилистических факторов.
Результаты и обсуждение
Процесс славянизации языка законодательных актов Петровской эпохи, как показывает исследование, происходил постепенно и на начальном этапе определялся содержанием и коммуникативно-прагматической направленностью документов. Причем самыми ранними документами XVIII в., отражающими включение славянизмов в деловой язык, являются не внутригосударственные нормативно-правовые и распорядительные акты, а международные документы, регулирующие отношения с другими странами и их представителями (трактаты, жалованные грамоты, «постановленные» статьи и др.).
Книжно-славянские элементы в международных актах и в указах, связанных с жизнедеятельностью
Церкви и монастырей
Количество международных документов в Петровскую эпоху резко увеличилось в силу активизации внешней политики Петра I, направленной, как отмечают историки, на укрепление позиций государства на международной арене и обеспечение безопасности границ государственной территории, получение доступа к Балтийскому морю и возможность иметь флот на Черном и Азовском морях [Бобылев, 1990; Стерликова, 2015].
Среди международных актов первых лет нового столетия можно назвать «Статьи, по-становленныя въ Москв h Бояриномъ Голови-нымъ съ Датскимъ Посланникомъ Гейнсомъ» 1701 г. (ПСЗ, т. 4, № 1824), «Трактатъ между Государемъ Петромъ I и Р h чью Посполитою Великаго Княжества Литовскаго, заключенный въ обоз h Шлотбург h Бояриномъ 6 едо-ромъ Головинымъ съ Литовскими послами, Михайломъ Біалозоромъ, Жигимонтомъ Хржановскимъ, Михайломъ Халецкимъ и Яномъ Домбровскимъ» 1703 г. (ПСЗ, т. 4, № 1934), «Договорные пункты, заключенные между Дерптскимъ Комендантомъ Скитте и Фельдмаршаломъ Шереметевымъ» 1704 г.
(ПСЗ, т. 4, № 1985), «Капитуляцiя, предложенная Иваногородскимъ Комендантомъ Стiерне Стралемъ о сдач h Иванагорода, съ отв h томъ на оную Россiйскаго Фельдмаршала Огильвія» 1704 г. (ПСЗ, т. 4, № 1989), «Трактатъ, учиненный въ Нарв h полномочнымъ Польскимъ по-сломъ Дзялынскимъ съ Россійскими Министрами» 1704 г. (ПСЗ, т. 4, № 1991) и др.
Чтобы наглядно представить разницу в языковом оформлении документов, связанных с внешней и внутренней политикой, приведем для сравнения небольшие фрагменты двух структурно схожих документов за июль 1704 г: «Договорные пункты, заключенные между Дерптскимъ Комендантомъ Скитте и Фельдмаршаломъ Шереметевымъ» (далее Договорные пункты) и «Статьи о дач h та-моженныхъ выписей на отвозные товары» (далее – Статьи).
Договорные пункты, направленные на регулирование процесса капитуляции и сдачи шведским комендантом города Дерпта, обнаруживают явное отклонение от нормы общеюридического языка, сложившегося в XVII в. в рамках приказной письменной традиции, в сторону книжно-славянского языка. Статьи о таможенных выписях регулируют в соответствии с Торговым уставом деятельность таможен по предоставлению выписей отпускным товарам и отличаются традиционным набором общеобязательных средств приказного письма (см. табл. 1).
Приведенные выше фрагменты актуализируют оппозицию ряда тексто- и стилеобразующих особенностей двух документов. Например, обнаруживается противопоставление союзов если и буде , обслуживающих условные конструкции соответственно в Договорных пунктах и Статьях: Если онъ желалъ получить согласія <...>, то <...>; Если бы н h которыя лица изъ Магистрата <...>, то <...> – А буде на срокъ выписи не поста-витъ , <...> то <...>; а буде не поставитъ, на немъ взять пошлину . Кроме союзного выражения условных отношений в Статьях типичными являются приказные бессоюзные конструкции с инициальным сочетанием « а который + инфинитив»: А въ которые города товары везти, то записывать въ та-моженныя отпускныя книги . Внутритекстовыми скрепами в Статьях являются класси-
Таблица 1. Примеры законодательных актов начала XVIII в., связанных с внешней и внутренней политикой государства
Table 1. Examples of legislative acts of the early 18th century related to the foreign and domestic policies of the state
Iюля 14. Договорные пункты, заключенные между Дерптскимъ комендантомъ Скитте и Фельдмаршалом Шереметевымъ
Договорные пункты, присланные Господиномъ Пол-ковникомъ и Комендантомъ Карломъ Густавомъ Скитте 14 Iюля 1704 года, рано по утру изъ Дерпской кр h пости въ лагерь къ Фельдмаршалу Шереметеву, съ отм h тками его на оные:
-
1) Г. Комендантъ требуетъ свободнаго пропуска для себя и для находящагося въ семъ город h подъ его начальствомъ Королевско-Шведскаго войска, какъ состоящаго по Артиллеріи и Фортификаціи, такъ и коннаго и п h шаго, безъ всякаго различія націй, <…> безъ осмотра и обыска, при чемъ им h етъ быть выдано оному войску м h сячное содержаніе, по уставу Его Королевско Шведскаго Величества <…>.
На 1. Весьма удивляемся, что Г. Комендантъ чинитъ столь неум h ренныя требованія <…>. Если онъ же-лалъ получить согласія на таковыя условія, то ему сл h довало бы предложить оныя заран h е, а нын h уже слишкомъ поздно. Но дабы поступить по Христіански, то ему Г. Коменданту, офицерамъ его, всему горнизону, также и прочимъ, какого бы они званія ни были, съ женами и д h тьми, и со вс h мъ имуществомъ и съ д h тьми данъ будетъ свободный пропускъ безъ осмотра, и выдано будетъ провіанта на м h сяцъ <…>
-
10) Если бы н h которыя лица изъ Магистрата, духовенства и гражданства, выславшія изъ сего города женъ, д h тей и имущество свое пожелали возвратить ихъ въ оный, то со стороны Его Царскаго Величества им h етъ быть на то дано соизволеніе <…> (ПСЗ, т. 4, № 1985, 1704 г.).
Iюля. Статьи о дач h таможенной выписи на отвозные товары
-
1. Русскіе люди и иноземцы какъ станутъ явить товары свои въ Таможняхъ въ отвозъ изъ города въ го-родъ: тотъ отпускъ по Торговому Уставу таможен-нымъ Бургомистрамъ чинить и выписи давать, не задерживая.
-
2. А въ которые города товары везти, то записывать въ таможенныя отпускныя книги именно съ прикладываніемъ рукъ, а съ того города поставить на срокъ отъявочныя выписи, а буде не поставитъ, на немъ взять пошлину съ ц h ны, чего тотъ товаръ сто-итъ, и въ томъ брать поруки, въ т h хъ же отпускныхъ книгахъ съ прикладываніемъ рукъ. <…>
-
4. Въ которыхъ городахъ т h товары въ явк h будутъ, съ той явки таможеннымъ Бурсмистрамъ давать отъ-явочные выписи вскор h безъ задержанія, чтобъ на срочныя числа не быть въ отсрочк h , и задержаніемъ Бурмистровымъ не отговариваться.
-
5. А буде на срокъ выписи не поставитъ, а явится, что учинено то задержаніемъ Бурмистровымъ, пошлины править на Бурмистрахъ, которые въ дач h отъ явочныхъ выписей задержаніе учинятъ; а чьи были товары, т h мъ отъ т h хъ пошлинъ быть свобод-нымъ. <…>
-
10. А которые Бурмистры по вышепоказанному указу отпускнымъ товарамъ записныхъ книгъ и порукъ съ прикладываніемъ рукъ им h ть не будутъ, и въ Ратуш h не подадутъ, а въ товарномъ отпуску будетъ споръ, и т h пошлины править на Бурмистрахъ, за вины ихъ по вышепоказанному указу. <…> (ПСЗ, т. 4, № 1987, 1704 г.).
ческие приказные союзы а и и , которые почти отсутствуют в Договорных пунктах.
Показательным является выражение категории неопределенности. Типичному для Статей и приказного языка в целом многозначному местоимению который в неопределенном значении, унаследованном из древнерусского языка (СлРЯ XI–XVII, вып. 7, c. 385), в Договорных пунктах противостоит церковнославянское местоимение нhкоторый (СС, с. 386; СРЯ XI–XVII, вып. 11, с. 156): А которые Бурмистры по вышепоказанному указу отпускнымъ товарамъ записныхъ книгъ и порукъ съ прикладываніемъ рукъ имhть не будутъ <...> и тh пошлины править на Бурмистрахъ – Если бы нhкоторыя лица изъ Магистрата, духовенства и граждан- ства <...> пожелали возвратить ихъ <...> 1. В «Словаре русского языка XVIII в.» ранняя фиксация местоимения некоторый в двух первых значениях ‘какой-то, точно не определенный’ и ‘отдельные из числа многих, всех’ датируется соответственно текстами 1712 г. и 1718 г. (СРЯ XVIII, c. 207–208).
В анафорической функции в Статьях активно выступает указательное местоимение тот , которому в Договорных пунктах соответствует местоимение оный , отмеченное кроме прочего в субстантивированном употреблении ( а чьи были товары, т h мъ отъ т h хъ пошлинъ быть сво-боднымъ – оному войску ; предложить оныя заран h е ; возвратить ихъ въ оный ).
В двух документах семантически противопоставлен глагол иметь: в Договорных пунктах он выполняет функцию этикетного маркера долженствования (при чемъ имhетъ быть выдано оному войску мhсячное со-держаніе; имhетъ быть на то дано соиз-воленіе); в Статьях – употребляется в значении ‘иметь, обладать’, типичном для языка предыдущей эпохи (А которые Бурмистры по вышепоказанному указу отпускнымъ това-рамъ записныхъ книгъ и порукъ съ прикла-дываніемъ рукъ имhть не будутъ).
В языке Договорных пунктов обращает на себя внимание разнообразие средств выражения модальных значений необходимости и желания ( требуетъ свободнаго пропуска ; чинитъ столь неум h ренныя требо-ванія ; ему сл h довало бы предложить ; пожелали возвратить ихъ ), конструкции с целевым союзом дабы , актуализирующим нравственный аспект ( Но дабы поступить по Христіански ).
Активизация книжно-славянских элементов в первую очередь в международных актах Петровской эпохи не случайна. Такое употребление опирается на языковой опыт, накопленный в данной сфере деятельности в предыдущий период, о чем свидетельствует язык внешнеполитических документов второй половины XVII в. [Русанова, 2022а]. Использование книжно-славянских средств составителями международных договоров, договорных статей, двусторонних записей было обусловлено необходимостью учитывать особенности межъязыковой и межкультурной коммуникации, маркировать государственную значимость принимаемых решений. Безусловно, лексико-синтаксические ресурсы церковнославянского языка обладали в этом отношении большим функционально-стилистическим потенциалом, нежели ресурсы приказного языка. Выявленные лингвостилистические особенности этих текстов позволяют охарактеризовать их как отклонение от нормы стандартного приказного общеюридического языка, подробно описанного учеными [Кортава, 1999; Ремнева, 2003].
Еще одной группой самых ранних законодательных актов, в которых обнаруживается «гибридный» деловой слог, предполагающий обязательное включение книжно-славянских элементов в качестве тексто- и стилеобразующих средств и также опирающийся на пре- дыдущий языковой опыт, были документы, связанные с деятельностью Патриарших и Монастырского приказов, например: именной указ «Об описи Патріаршаго дома и Патри-аршихъ приказныхъ служителей и Дворянъ, домовъ Архіерейскихъ, монастырей и вот-чинъ Патріаршихъ, Архіерейскихъ и мона-стырскихъ...» (ПСЗ, т. 4, № 1834, 1701 г.); «Грамота Преосвященному Варлааму Ясинскому, Митрополиту Кіевскому – О невозбраненіи обучаться въ Кіевской Академіи Русскимъ приходящимъ изъ другихъ стран людямъ» (ПСЗ, т. 4, № 1870, 1701 г.); «Именный, объявленный Бояриномъ Мусинымъ Пушкинымъ, Монастырскому приказу» (ПСЗ, т. 4, № 1886, 1701 г.) и др. Примечательно начало последнего указа, служащее обоснованием принятого царем решения о выдаче монахам денежного и хлебного жалования по единообразному окладу и оформленное церковнославянским языком вплоть до использования простых претеритных форм глагола:
Въ монастыри монахамъ и монахинямъ давать опред h ленное число денегъ и хл h ба въ обще-жительство ихъ, а вотчинами имъ и никакими угодь-ми не влад h ть неради раззоренія монастырей, но лучшаго ради исполненія монашескаго об h щанія; понеже древніе монахи сами себ h трудолюбными своими руками пищу промышляли и общежитель-но живяше, и многихъ нищихъ отъ своихъ рукъ питали, нын h шніе же монахи не токмо нищихъ пита-ше отъ трудовъ своихъ, но сами чуждыя труды по-ядаша, и начальные монахи во многія роскоши впа-доша <...> И сея ради вины указалъ Великій Государь, равное даяніе учинити, яко начальнымъ тако и подначальнымъ монахамъ <...> (ПСЗ, т. 4, № 1886, с. 181–182).
Говоря о существовании языкового опыта в данной сфере, мы имеем в виду не только лингвокультурологическую роль церковнославянского языка (языка канонических христианских текстов) в религиозном дискурсе, но и еще один немаловажный факт – использование церковнославянского языка в средневековой Руси для переводов древнегреческих текстов юридического характера, в частности, Устава Студийского, включающего церковный и монастырский уставы, Закона судного людям и Городского закона (сборник Мерило праведное) (подробно об этом см.: [Ремнева, 2003, с. 103–113]).
В то же время, следует отметить, что многие указы, направленные на решение текущих дел и проблем приходов и монастырей, оформлялись в начале XVIII в. традиционным приказным слогом, напр.: именные указы об отдаче просителям патриарших, архиерейских и монастырских пустошей на вечное содержание (ПСЗ, т. 4, № 1897, 1702 г.), о подаче приходскими священниками в Духовный приказ недельных ведомостей о родившихся и умерших (ПСЗ, т. 4, № 1908, 1702 г.), о сборе с московских и городовых церквей с попов и дьяконов драгунских лошадей (ПСЗ, т. 4, № 2142, 1707 г.) и др.
Книжно-славянские элементы в правовых нормативных и распорядительных актах, связанных с внутренней политикой
Особое место в процессе освоения книжно-славянских элементов языком законодательных актов занимают нормативные правовые и распорядительные документы, связанные с решением внутригосударственных (административных, экономических, военных, гражданских и др.) проблем, так как распространение книжного влияния на эти документы расширяет границы функционирования делового языка нового типа и способствует формированию нового официально-делового письменного узуса.
Язык документов, содержащих обязательные к исполнению указания вышестоящих органов и фиксирующих решение административных и организационных вопросов, вопросов обеспечения и регулирования деятельности учреждений и ведомств, должностных лиц и т. д., интересен тем, что исторически не связан с отмеченным выше опытом использования книжнославянских средств. Стандартному приказному языку, традиционно обслуживающему подобные документы, по сути, «с нуля» предстояло освоить новые стилистические возможности и приемы их реализации в тексте. Исследователи Соборного Уложения 1649 г. указывают на два фрагмента в его составе, написанные церковнославянским языком, они представляют самостоятельные текстовые вставки из церковнославянской переводной юридической письменности, не влияющие в целом на характер языка
Уложения [Ремнева, 2003, с. 294–295; Черных, 1953, с. 135–138]; это «знак не языкового, а концептуального влияния» [Ремнева, 2003, с. 295].
Активное проникновение славянизмов в язык подобных документов, насколько позволяют судить тексты из Полного собрания законов Российской империи, приходится на конец первого и первую половину второго десятилетия XVIII века.
При внешней макароничности языка директив представляется возможным говорить о предпочтениях законодателей в оформлении тех или иных документов, с учетом этих предпочтений исследуемые акты условно можно охарактеризовать как ориентированные на приказную письменную традицию со стандартным набором текстообразующих средств и ориентированные на письменный узус международных актов со свойственным ему доминированием книжно-славянских средств организации текста. Актуальными при выборе средств становятся предметное содержание документа и коммуникативнопрагматические установки создателя, определяющие общую императивную тональность законодательного акта.
Так, новый канцелярский слог представлен в именных указах, адресованных высокопоставленным военным чинам, что подчеркивает немаловажность социального аспекта в процессе славянизации официально-делового языка (см. указы комендантам о передаче родителями векселей детям, обучающимся за границей, через Адмиралтейский приказ (ПСЗ, т. 4, № 2292, 1710 г.) и о заготовке провианта в Сибирской губернии (ПСЗ, т. 4, № 2295, 1710 г.), генералам-фельдмаршалам о размещении полков по винтер-квартирам (ПСЗ, т. 5, № 2638, 1713 г.), штабс- и обер-офицерам о положенном количестве денщиков и их жаловании (ПСЗ, т. 5, № 2640, 1713 г.)). Маркируются книжно-славянскими элементами указы, требующие особой императивной тональности, обусловленной чрезвычайными событиями и обстоятельствами, которые создают опасность для государства – эпидемии, и в частности моровая язва (ПСЗ, т. 4, № 2296, 1710 г.), подрывают международный авторитет России, например, производство на продажу английским купцам бракованной пеньки (ПСЗ, т. 5, № 3005, 1716).
Приказный слог продолжают сохранять указы, связанные с набором рекрутов (ПСЗ, т. 4, № 2281, 1710 г.; ПСЗ, т. 5, № 2632, 1713 г.), с таможенными и питейными сборами (ПСЗ, т. 4, № 2288, 1710 г.), со сбором провианта из губерний (ПСЗ, т. 5, № 2631, 1713 г.), с регулированием работы ямов и дачи подвод (ПСЗ, т. 4, № 2294, 1710 г.), с созданием пороха и доставкой селитры для продажи в Москву (ПСЗ, т. 4, № 2379, 1711 г.) и т. п.
Приведем в качестве примера два небольших указа, именной и сенатский, посвященные сбору провианта и рекрутов и ориентированные на разные письменные узусы (табл. 2). Первый адресован коменданту князю Гагарину, второй – губернаторам в губернии. Во втором тексте для его сокращения сделано несколько купюр с однотипными конструкциями.
Количество книжно-славянских элементов в законодательных актах первых десятилетий XVIII в. варьируется. В одних документах, составленных приказным слогом, обнаруживаются единичные вкрапления славяниз- мов, другие отражают параллельное употребление приказных и книжных средств. Исследование и тех, и других документов актуально, поскольку дает возможность определить характер включения церковнославянских элементов в приказный директивный текст, степень мотивированности выбора языковых средств и их варьирования.
Особый интерес представляют тексты, языковое оформление которых свидетельствует о тенденции к функционально-семантическому распределению приказных и книжных единиц как стилистических средств. Соучаствуя в текстообразовании, подобные элементы занимают в структуре документа семантически маркированные позиции. Так, важным для законодателей оказывается стремление маркировать приказными лексико-синтаксическими средствами действия и поступки противозаконные, имеющие негативные последствия, и книжно-славянскими средствами – действия, совершенные в соответствии с законом, государственно значимые. Ниже приведен указ о клеймении и записи весов и фун-
Таблица 2. Примеры петровских указов, ориентированных на разные письменные узусы
Table 2. Examples of Peter the Great’s decrees focused on different written usages
|
Сентября 17. Именный Комменданту Князю Гагарину. О заготовленіи въ Сибирской Губерни провіанту, муки 13,236 четвертей и о собраніи рекрутъ |
Генваря 16. Сенатский. О взятіи штрафа за недоставленіе на сроки рекрутъ |
|
Господинъ Полковникъ и Коммендантъ! По полученіи сего указа нарядить вамъ въ Сибирской губерни провіанту 13269 четвертей муки, и чтобъ оное число поставлено было сюда будущимъ зим-нимъ путемъ въ Генвар h или кончае въ первыхъ числахъ Февраля м h сяца, что з h ло нужно, дабы то впредь не взыскано было на васъ; также надобно вамъ собрать съ Сибирской Губерніи рекрут 738 челов h къ, кром h того числа солдатъ, о которомъ прежде къ вамъ писано (что въ Рижской гарнизонъ надобно) и также оныхъ привесть вамъ сюда съ собою, купно съ вышереченнымъ въ Ригу гарнизо-номъ, понеже оные рекруты нын h въ дополнку арміи з h ло нужны, ради упадка отъ моровой бол h зни въ людяхъ (ПСЗ, т. 4, № 2295, 1710 г.). |
Рекрутъ собрать и выслать къ Москв h съ Губерній на сроки нынешняго 713 года, Московской Марта въ первыхъ числахъ, съ Нижняго и отъ Нижняго въ верхъ до городовъ Московской Губерніи Марта въ среднихъ числахъ <…> а съ Кіевской, съ Азовской, съ Смоленской собрать въ Март h м h сяц h , и им h ть на станціяхъ въ т h хъ же Губерніяхъ. А буде выше-писанныхъ Губерній, опричь С. Петербургской Губерніи, Губернаторы на вышеписанные скроки (sic!) въ Губерніяхъ рекрутъ сполна не сберутъ и съ которыхъ опред h лено къ Москве не пришлютъ, а въ прочихъ на станціяхъ им h ть не будутъ: и за то на Губернаторахъ взято будетъ за каждаго недобранна-го рекрута штрафа по рублю за челов h ка. А буде пом h щики и вотчинники, и Дворцовые и Архіерейскіе и монастырскіе прикащики т h хъ рек-рутъ въ Губерніяхъ на т h сроки <…> не отдадутъ: и за то на нихъ за каждаго рекрута взять штрафа, кром h указанныхъ рублевыхъ денегъ, по рублю; а буде въ той по срок h нед h л h кто не заплатитъ: и на такихъ за всякаго рекрута имать по 5 рублей <…>. А съ которой Губерніи въ сбор h рекрутъ и рублевыхъ и штрафныхъ денегъ сколько будетъ: о томъ чрезъ дв h нед h ли прислать въ Сенатъ в h деніе (ПСЗ, т. 5, № 2632, 1713 г.). |
тов торговыми и мастеровыми людьми серебряного ряда у старост, в котором конструкции о противозаконном самовольстве с их стороны и о приветствуемой инициативе людей из других рядов клеймить и записывать весы и фунты оформлены соответственно приказным и книжным союзами:
По указу Великаго Государя вел h но, чтобъ серебрянаго ряда у торговыхъ и мастеровыхъ людей были в h сы и фунты у вс h хъ были правдивые и заклеймены годовымъ клеймомъ съ запискою у старостъ того ряда, и брать отъ той записки и клейменья пошлинъ по 10 денегъ. А буде кто самоволь-ствомъ своимъ фунтовъ и в h сковъ къ записк h приносить не станетъ, и будетъ им h ть неклейменые: и имъ старостамъ подавать на таковыхъ доношеніе <...> А ежели кто изъ другихъ рядовъ пожелаетъ къ нимъ старостамъ, ради исправленія, в h ски и фунты приносить: то имъ чинить о томъ по вышепи-санному жъ Его Великаго Государя указу (ПСЗ, т. 4, № 2229, 1709 г., с. 451).
Значимыми представляются также случаи, когда синтаксические средства, разговорные по происхождению, выступают как нейтральные средства оформления предписания, наставления, требования, а книжные маркируют недопустимость, запрет незаконных действий и, как следствие, закономерную ответственность за нарушения:
<...> по указу Великаго Государя Правитель-ствующій Сенатъ слушавъ той отписки и выписки приговорили, о высылк h каменьщиковъ въ Азовъ и въ Троицкое послать изъ Канцеляріи Правитель-ствующаго Сената указы, чтобъ оные каменьщи-ки изъ т h хъ Губерній высланы были безсрочно съ посп h шеніемъ, и чтобъ нын h шнимъ л h томъ, за неприсылкою т h хъ каменьщиковъ, не учинить въ т h хъ городахъ строенію отстановки. А ежели т h каменьщики изъ Губерній вскор h высланы не бу-дутъ, а въ Азов h и Троицкомъ какимъ д h ламъ учинится остановка, и та остановка причтена будетъ къ т h мъ Губерніямъ, изъ которыхъ не вышлются <...> (ПСЗ, т. 4, № 2380, 1711 г., с. 701);
Да и Коммисаромъ т h хъ Губерній Его Вели-каго Государя указъ сказать съ приложеніемъ рукъ, чтобъ они въ заплат h т h хъ денегъ на вышеписан-ной срокъ конечно исправились, а ежели не исправятся, то взятъ будетъ на нихъ штрафъ (ПСЗ, т. 5, № 2641, 1713 г., с. 13).
Кульминационным в процессе славянизации официально-делового языка, знаменую- щей формирование его нового стандарта, утверждающей границы новой нормы, является язык ключевых законодательных актов, связанных с кардинальной перестройкой юридической системы Российской империи, государственного управления, системы делопроизводства, армии, флота и определивших принципы их работы. Речь идет о таких регламентирующих документах, как Военный устав и Артикулы воинские 1716 г., Морской устав 1720 г. и Генеральный регламент 1720 года. Об актуальности их лингвистического исследования свидетельствует повышенный интерес к ним в последние годы [Акишин, 2020; Пушкарева, 2021; Руднев, Пушкарева, 2021; Русанова, 2022б; Садова, Руднев, 2019; Садова, 2021].
Регламентирующие документы столь высокого для того времени уровня юридического языка не могли быть созданы без предварительной напряженной работы по поиску приемов и способов синтезирования приказных и книжных средств в пространстве одного текста, о чем говорят выявленные этапы славянизации языка законодательных актов. Особенности включения книжно-славянских элементов в подобные нормативно-правовые акты подтверждают дальнейшее развитие тенденции к функционально-стилистической и коммуникативно-прагматической обусловленности использования языковых средств. Так, исследование Морского устава показало, что в главах, посвященных разным аспектам военно-морской службы, соотношение конструкций с книжными и аналогичными приказными средствами связи различается. Например, в главе о главнокомандующем флота на 23 условные конструкции с союзом ежели приходится 7 конструкций с союзом есть ли и 1 – с союзом буде, а в главе о государственных злоумышленниках и «противящихся командиром своим» пропорция синтаксических средств, обслуживающих условные отношения, меняется: ежели встречается 7 раз, есть ли – 7, буде – 3; основным же средством экспликации условно-следственных отношений оказываются типичные для приказного языка конструкции с бессоюзным оформлением [Русанова, 2022б]. О влиянии внешнеязыковых факторов (в частности, квалификации субъекта волеизъявления и субъекта-исполнителя) на изменение форм выражения императивности в Морском уставе пишет Н.В. Пушкарева. Языковые единицы, выражающие императивность в тексте устава, передают не просто побуждения, но и разную степень значимости формулируемых требований и их последствий. Например, оборот с да (не) будет используется при описании серьезных проступков, за которые жестоко карают; конструкции, состоящие из форм глагола иметь и инфинитива, встречаются в описаниях необходимых поступков [Пушкарева, 2021, с. 59–60].
Будучи ориентированными на лучшие образцы западноевропейского законодательного творчества, все перечисленные документы в языковом плане демонстрируют установку на синтез генетически разнородных языковых средств, направленных на точность и логичность выражения мысли.
Заключение
Славянизация официально-делового языка XVIII в. – один из кардинальных процессов в истории делового языка, направленный на повышение его культурного и коммуникативного статуса и обусловивший преобразование синтагматики языковых средств в пространстве делового текста. Включение книжно-славянских элементов в законодательные акты требовало от реформаторов поиска оптимальных приемов и способов стилистического взаимодействия генетически разнородных книжных и приказных элементов. Важным фактором, определявшим оперативность исследуемого процесса, является опора на языковой опыт, накопленный в сфере международных отношений. Язык международных актов второй половины XVII в. стал, по сути, той экспериментальной площадкой, где апробировался стилистический потенциал книжно-славянских средств в деловой коммуникации.
В Петровскую эпоху происходит расширение сферы подобного употребления славянизмов в законодательной и делопроизводственной практике, что закономерно приводит к решению проблем коммуникативно-прагматической и функционально-стилистической обусловленности языковых средств, связанных с разными письменными традициями.
Список литературы Славянизация языка законодательных актов в петровскую эпоху
- Акишин М. О., 2020. Юридический язык Морского устава 1720 г. // Ленинградский юридический журнал. № 3 (61). С. 6–23.
- Бобылев В. С., 1990. Внешняя политика России эпохи Петра I. М.: Изд-во ун-та Дружбы народов. 168 с.
- Живов В. М., 1996. Язык и культура в России XVIII века. М.: Шк. «Яз. рус. культуры». 591 с.
- Кортава Т. В., 1999. Московский приказный язык XVII века как особый тип письменного языка: дис. ... д-ра филол. наук. М. 295 с.
- Кудрявцева Е. А., 2007. Элементы церковно-славянской традиции в деловой письменности начала XVIII века: (На материале памятников Туруханского Троицкого монастыря): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Красноярск. 23 с.
- Майоров А. П., 2006. Очерки лексики региональной деловой письменности XVIII века. М.: Азбуковник. 263 с.
- Майоров А. П., 2018. Книжно-славянские элементы разных уровней в деловом языке XVIII в. // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. Т. 4, № 2. С. 24–32. DOI: 10.18101/1994-0866-2018-2-4-24-32
- Пушкарева Н. В., 2021. Особенности проявления императивности в тексте «Устава Морского» 1720 года // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Т. 43, № 6. С. 57–64. DOI: 10.15393/uchz.art.2021.657
- Ремнева М. Л., 2003. Пути развития русского литературного языка XI–XVII вв. М.: Изд-во Моск. ун-та. 336 с.
- Руднев Д. В., Пушкарева Н. В., 2021. Регламенты петровского времени в аспекте императивности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 20, № 4. С. 36–49. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2021.4.3
- Русанова С. В., 2022а. Книжно-славянские элементы в языке международных юридических документов Московской Руси второй половины XVII века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Т. 44, № 4. С. 109–115. DOI: 10.15393/uchz.art.2022.774
- Русанова С. В., 2022б. Морской устав 1720 г.: функционально-коммуникативная обусловленность языковых средств // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 21, № 6. С. 88–99. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.6.7
- Садова Т. С., 2021. Слово «надлежит» в составе императивной формулы в тексте «Устава воинскаго» 1716 года // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Т. 43, № 3. С. 8–16. DOI: 10.15393/uchz.art.2021.595
- Садова Т. С., Руднев Д. В., 2019. Кристаллизация деловой речи в Петровскую эпоху // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. № 5 (182). С. 43–47. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.350
- Стерликова А. А., 2015. Внешняя политика и дипломатия России периода Северной войны в отечественной историографии // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Историография и источниковедение. № 2, т. 4. С. 61–67.
- Черных П. Я., 1953. Язык Уложения 1649 года. М.: Изд-во АН СССР. 374 с.