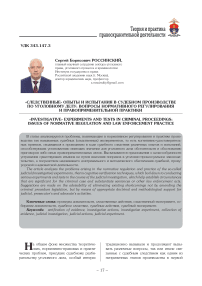«Следственные» опыты и испытания в судебном производстве по уголовному делу: вопросы нормативного регулирования и правоприменительной практики
Автор: Россинский С.Б.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 3 (56), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются проблемы, возникающие в нормативном регулировании и практике производства так называемых судебных (следственных) экспериментов, то есть когнитивно-удостоверительных приемов, сводящихся к проведению в ходе судебного следствия различных опытов и испытаний, способствующих установлению имеющих значение для уголовного дела обстоятельств и обоснованию приговоров либо иных правоприменительных актов. Высказываются предложения о целесообразности устранения существующих изъянов не путем внесения поправок в уголовно-процессуальное законодательство, а посредством надлежащего доктринального и методического обеспечения судебной, прокурорской и адвокатской деятельности.
Проверка доказательств, следственные действия, следственный эксперимент, собирание доказательств, судебное следствие, судебные действия, судебный эксперимент
Короткий адрес: https://sciup.org/140306989
IDR: 140306989 | УДК: 343.147.3
Текст научной статьи «Следственные» опыты и испытания в судебном производстве по уголовному делу: вопросы нормативного регулирования и правоприменительной практики
На общем фоне множества теоретических, нормативно-правовых и практических проблем, присущих судебному разбирательству уголовного дела, особый интерес традиционно вызывали и продолжают вызывать различные вопросы, так или иначе связанные с судебным следствием как одним из непременных этапов производства в первой или апелляционной инстанциях. И в этом нет ничего странного. Ведь будучи направленным на установление имеющих значение для уголовного дела обстоятельств, предполагая собирание, в том числе формирование новых, исследование либо проверку уже имеющихся доказательств, судебное следствие по праву занимает как бы центральное место среди прочих этапов судебного разбирательства, обеспечивающих его надлежащую подготовку, а также подведение его итогов и оценку его результатов. Причем такое доминирующее положение судебного следствия далеко не случайно – оно обусловлено рядом известных канонов состязательной модели правосудия и прямо вытекает из положений УПК РФ.
В этой связи законом предусмотрен целый арсенал когнитивно-удостоверительных приемов – так называемых судебных (судебно-следственных) действий, позволяющих накапливать, исследовать, надлежащим образом фиксировать, а затем и проверять «полезные» информационные активы, подлежащие использованию для обоснования соответствующих приговоров либо иных свойственных судебному разбирательству правоприменительных актов. Один из таких приемов – связанный с проведением судом различных «следственных»1 опытов и испытаний, способствующих установлению имеющих значение для уголовного дела фактических данных, – предусмотрен ст. 288 УПК РФ. Его принято называть судебным экспериментом (вариативно – следственным экспериментом, проводимым в судебном заседании либо судебно-следственным экспе-риментом)2; ему и посвящается настоящая статья.
Итак, судебный эксперимент – это осуществляемый судом совместно со сторонами в присутствии прочих участников судебного заседания и «судебной публики» процессуально-познавательный прием, предполагающий совокупность подлежащих непосредственному восприятию физических, технических или прочих опытов и испытаний, не требующих экспертного исследования и сводящихся к реконструкции события преступления, поведения отдельных лиц, иных фрагментов объективной реальности в целях проверки имеющихся в распоряжении суда сведений и выдвинутых версий или получения новых сведений об эвентуальности (об отсутствии эвен-туальности) существования каких-либо значимых для надлежащего разрешения уголовного дела фактов. А формальная возможность его проведения появилась сравнительно недавно – впервые получила легальное воплощение лишь в УПК РФ. Действовавший ранее Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. (далее – УПК РСФСР) дозволял прибегать к подобным механизмам лишь органам дознания и следователям и лишь в рамках предварительного расследования: посредством производства соответствующих следственных действий – следственных экспериментов. Правда данный пробел вовсе не вынуждал судей полностью отказываться от применения «следственных» опытов и испы- таний. Ведь идеи о судебном экспериментировании высказывались учеными-криминалистами еще в преддверии известной реформы советского процессуального законодательства, проведенной на рубеже 1950-1960-х гг. [3, с. 95-98; 4, с. 22, 9, с. 35-37 и др.], а сами суды неоднократно прибегали к помощи различных опытов и испытаний [2, с. 140; 10, с. 7-10]. Поэтому разработчики принятых в ходе реформы уголовно-процессуальных кодексов некоторых других союзных республик, по всей вероятности, хорошо усвоив указанные научные позиции и осознав насущные потребности правоприменительной практики, посчитали разумным прямо предусмотреть возможность проведения экспериментов в судебных заседаниях. Например, в ст. 298 УПК Туркменской ССР говорилось о производстве судебного эксперимента, в ст. 254 УПК Эстонской ССР и ст. 292 УПК Латвийской ССР – о проведении следственного эксперимента в судебном заседании, тогда как в ст. 296 УПК Грузинской ССР, ст. 284 УПК Армянской ССР, ст. 274 УПК Узбекской ССР, ст. 293 УПК Киргизской ССР и ст. 261 УПК Молдавской ССР – о воспроизведении судом обстановки произошедшего. Определенные, хотя гораздо более осторожные шаги в данном направлении предпринял и российский законодатель – согласно ч. 1 ст. 70 УПК РСФСФ судам наряду с органами предварительного расследования и прокуратуры было дозволено использовать любые (!) предусмотренные Кодексом способы собирания доказательств, стало быть, и проводить следственные эксперименты.
Однако сложности в этом сегменте судебной практики все же наблюдались – ввиду гипотетической непригодности для судебного заседания ряда изначально рассчитанных на досудебное производство условий следственного эксперимента подобные действия иногда проводились и оформлялись под видом иных познавательно-удостоверительных приемов, преимущественно под видом установленного ст. 293 УПК РСФСР судебного осмотра местности и помещения. В других случаях уголовные дела вообще возвращались для дополнительного расследования с прямым указанием прокурору о необходимости производства следственного эксперимента [8, с. 49].
И в этой связи ученые на протяжении почти сорока лет настаивали на необходимости введения в предмет уголовно-процессуального регулирования обособленной, отвечающей условиям реализации судебной власти формы проведения эксперимента в судебном заседании и заявляли об объективной потребности в ее автономной правовой регламентации [5, с. 110-122; 12, с. 186; 21, с. 74 и др.]. В конце концов эти призывы были услышаны – разработчики действующего уголовно-процессуального закона предусмотрели для судебного производства отдельную форму осуществления «следственных» опытов и испытаний, с одной стороны, предполагающую разумную преемственность по отношению к порядку производства эксперимента в ходе предварительного расследования, а с другой – отвечающую общим условиям судебного разбирательства в целом и правилам проведения судебного следствия в частности.
Правда, справедливости ради, все же стоит обратить внимание, что отдельные ученые придерживались иной позиции. Они не усматривали потребности в самостоятельной правовой регламентации судебного экспериментирования, полагая, что такие когнитивно-удостоверительные приемы надлежит осуществлять в рамках все тех же установленных ст. 293 УПК РСФСР и соответствующими положениями кодексов других республиканских судебных осмотров [6, с. 44].
Более того, схожие суждения присущи и некоторым современным публикациям, где судам предлагается проводись «следственные» опыты и испытания в порядке, установленном ст. 287 УПК РФ для судебных осмотров помещений и участков местности [1, с. 127]. Причем, как будет показано далее, эти взгляды не так уж и беспочвенны.
Осмотры и эксперименты – действительно, достаточно близкие когнитивно-удостоверительные приемы. В основе обоих лежат общие гносеологические и психофизиологические закономерности невербального метода познания, состоящего в визуальной либо иной чувственной перцепции судьями и прочими участниками судебных заседаний материальных фрагментов объективной реальности с последующей трансформацией воспринятых сигналов посредством наглядно-образного мышления в соответствующие мысленные образы, подлежащие условно-знаковой фиксации в протоколах судебных заседаний [подр.: 15, с. 95-99; 17, с. 360-361], а формируемые путем их производства информационные активы относятся к одному и тому же виду доказательств – к результатам невербальных следственных и судебных действий [подр.: 18, с. 91]. Да и вообще, эксперимент является по отношению к осмотру неким «дочерним» действием. Ведь существующие в настоящее время алгоритмы следственных» опытов и испытаний изначально сформировались как бы внутри судебного осмотра и лишь затем были признаны самостоятельным способом собирания доказательств. Таким образом, судебные осмотры и эксперименты должны предполагать достаточно близкий порядок производства, рассчитанный на возможность невербального восприятия всеми участвующими в рассмотрении (присутствующими при рассмотрении) уголовного дела лицами (судьями, государственными либо частными обвинителями, подсудимыми, защитниками, потерпевшими, «судебной публикой» и пр.) значимых фрагментов объективной реальности, в первую очередь расположенных не в зале судебного заседания.
В этой связи в ст. 288 УПК РФ вполне ожидаемым было бы увидеть какие-либо нормативные намеки на обязанность председательствующего по прибытии на место проведения эксперимента объявлять о продолжении судебного заседания, на принятие иных мер, способствующих обеспечению надлежащих условий реализации судебной власти, и т.д. Однако подобные детали почему-то не были удостоены должного законодательного внимания – их процессуальная регламентация оказалось не столь четкой и понятной, не склонной к должному исполнению установленных требований в соответствии с их аутентичным смыслом.
Не вполне удачной видится и предусмотренная ч. 2 ст. 288 УПК РФ отсылочная конструкция, предписывающая судам осу- ществлять свои опыты и испытания в предусмотренном ст. 181 УПК РФ порядке следственного эксперимента. На первый взгляд, здесь вроде бы нет ничего странного, поскольку этим подчеркивается общность, по крайней мере схожесть, сущности, задач и оснований для проведения обоих процессуальных форм экспериментирования, а также обеспечивается вышеупомянутая преемственность процедурных правил одной из них по отношению к другой.
Вместе с тем подобная преемственность все же должна иметь известные границы, обусловленные принципиально разными условиями следственной (дознавательской) и судебной деятельности. На достаточно серьезные различия следственного и судебного экспериментов обращали внимание многие специалисты. В частности, наиболее известный советский представитель судебной криминалистики Л.Е. Ароцкер еще в 1964 г. писал о своеобразии судебного экспериментирования, детерминированном особыми, отличными от предварительного расследования условиями процессуальной деятельности суда. Он справедливо указывал на необходимость обеспечения присутствия при проведении эксперимента всех участников судебного заседания, включая полный состав суда и подсудимого, говорил о возможности его производства лишь в условиях открытости (гласности) процесса и т.д. [2, с. 139]. Схожие позиции имеются в публикациях Р.С. Белкина, Г.А. Воробьёва и ряда других авторов [5, с. 122; 8, с. 2 и др.]. Этот же тезис, правда, в несколько более общем виде высказывали и некоторые ученые-процессуалисты. Например, П.С. Элькинд справедливо указывала на отсутствие какого-либо единства процедур следственных и схожих с ними судебных приемов установления истины [23, с. 84].
Таким образом, суду надлежит осуществлять «следственные» опыты и испытания в несколько ином процессуальном режиме – хотя и детерминированном некоторой степенью преемственности по отношению к следственному эксперименту, но все-таки позволяющим обеспечить гласность и состязательность судебного заседания, право на доступ к правосу- дию и другие важнейшие каноны реализации судебной власти. Тогда как вытекающие из системного единства ст. 181 и 288 УПК РФ требования к проведению экспериментов в судебных заседаниях не вполне предрасположены к подобному пониманию. Скорее их можно истолковать как предполагающие достаточно большой крен в сторону правил собирания доказательств в досудебном производстве по уголовному делу.
Причем порой это приводит к достаточно неприятным и нежелательным ошибкам. Например, известны случаи, связанные с принудительным ограничением круга участников судебного эксперимента только составом суда, сторонами и лицами, прямо указанными в ст. 288 УПК РФ, то есть с его проведением в сходных с предварительным расследованием условиях, исключающих присутствие «посторонних». В других ситуациях ход и результаты «следственных» опытов и испытаний фиксировались в отдельных протоколах, которые в дальнейшем приобщались к протоколам судебных заседаний и т.д. До недавнего времени встречались и более курьезные случаи: догматично стремясь к выполнению вроде бы как установленных для судебного эксперимента процедурных требований, некоторые судьи даже привлекали к участию в его производстве понятых. Правда, на сегодняшний день ввиду нормативного снижения роли понятых в обеспечении доброкачественности результатов процессуальных действий подобные оплошности более не допускаются.
Для преодоления существующих дефектов законодательной основы проводимых судом «следственных» опытов и испытаний, для исключения, по крайней мере сокращения, допускаемых судьями практических ошибок вполне разумно прибегать к потенциалу правовой аналогии и пользоваться наиболее близкими по содержанию положениями УПК РФ. А ввиду рассмотренной выше схожести судебного эксперимента и судебного осмотра местности и помещения такими положениями как раз и являются нормы, включенные в ст. 287 УПК РФ.
Вместе с тем полностью согласиться с учеными, предлагающими осуществлять судебные эксперименты по правилам осмотра местности и помещения, то есть унифицировать процессуальные режимы этих когнитивно-удостоверительных приемов, все-таки достаточно сложно. Ведь, несмотря на их бесспорные сходства, предопределенные единым невербальным методом процессуального познания, сущности экспериментирования все же свойственны достаточно весомые особенности – именно они в свое время и вынудили ученых, а затем и законодателя признать эксперимент автономным, требующим самостоятельной нормативной регламентации судебным действием.
В противовес осмотру местности и помещения «следственные» опыты и испытания характеризуются гораздо более специфическими когнитивными технологиями и предполагают более сложные объекты познания. Они позволяют суду, сторонам, другим участникам судебного заседания и даже присутствующей «судебной публике» наблюдать не столько возникшие в результате преступной деятельности либо каких-то связанных с ней обстоятельств фрагменты объективной реальности (так называемые материальные следы преступления в широком смысле), сколько продукты искусственной реконструкции, своеобразные модели этих фрагментов, в первую очередь обстановки случившегося в целом и ее деталей в частности. Кроме того, объектами «следственных» опытов и испытаний могут быть воссозданные фрагменты поведения отдельных людей, функционирования различных «машин» и технических механизмов, иные динамические процессы1. Иными словами, в отличие от осмотров эксперименты позволяют выявить, распознать, а в дальнейшем и оценить результаты судебного моделирования, то есть сведения об аутентичных объектах процессуального познания, по- лученные посредством перцепции их специально воссозданных «дублей» и «клонов».
В этой связи существуют и специфические основания для проведения судебных экспериментов. В частности, Л.Е. Ароцкер связывал таковые: 1) с сомнениями в достоверности результатов произведенного ранее следственного эксперимента; 2) с возникновением каких-либо новых данных, подлежащих проверки не иначе, как путем экспериментирования; 3) с потребностью в восполнении пробелов досудебного производства, состоящих в непроведении эксперимента в ходе предварительного следствия; 4) с необходимостью собственного восприятия судом результатов соответствующих проведенных опытов и испытаний [2, с. 141-141]. Схожие взгляды присущи публикациям Ю.В. Кореневского [13, с. 8] и А.А. Васяева [7, с. 347]. Тогда как Г.И. Загорский, исходя из данных, полученных в ходе анализа правоприменительной практики, счел, что в реальности такие основания ограничиваются лишь необходимостью проверки даваемых в судебных заседаниях показаний [11, с. 117].
Таким образом, представляется, что свойственные судебному экспериментированию особенности все же вполне достаточны для осознания неверности точки зрения об его производстве в порядке судебного осмотра местности и помещения. Тем более, что даже в условиях действующего уголовно-процессуального регулирования, вроде бы как не предполагающего унификации правил проведения данных когнитивно-удостоверительных приемов, в практической деятельности судов достаточно часто встречаются необоснованные подмены одного из них (эксперимента) другим (осмотром).
Так, по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ, судья одного из районных судов Московской области, руководствуясь положениями ст. 287 УПК РФ, произвел осмотр участка автомагистрали – в целях выявления ограниченной эвентуальности (!) визуального восприятия движущихся по дороге автомобилей в определенных погодных условиях и проверки гипо- тезы о невозможности (!) распознания свидетелем марки и цвета транспортного средства, находившегося под управлением подсудимого. В материалах современной судебной практики можно встретить и множество других подобных случаев.
Означает ли все сказанное насущную потребность в поспешном устранении вроде бы как изъянов нормативного регулирования судебного эксперимента, обуславливающих рассмотренные практические затруднения и допускаемые оплошности? Нет, не означает!
Автор статьи вообще весьма настороженно относится к подобным скоропалительным правотворческим инициативам, кстати, свойственным чуть ли не доброй половине современных научных публикаций уголовно-процессуальной направленности. Тем более, что предусмотренная ст. 288 УПК РФ юридико-техническая конструкция в целом представляется достаточно удачной. В первую очередь, она свободна от влияния присущих национальной правотворческой политике деструктивных тенденций, предполагающих инкрементальное усиление формализации различных юридических процедур и пронизанных стремлением «узаконить» (в узком смысле), то есть урегулировать посредством федерального закона все большее и большее количество возникающих вопросов. В публикациях автора уже неоднократно обращалось внимание на постепенное наполнение уголовно-процессуального законодательства положениями, не имеющими подлинно правовой ценности и «высокого» предназначения. Одновременно говорилось об их ярко выраженном техническом или технологическом характере, о сведении многих из них к правилам уголовно-процессуального делопроизводства [подр.: 19, с. 121-124], о постепенном превращении УПК РФ в своеобразную «поваренную книгу», в пошаговую инструкцию, в некую «памятку для безграмотных правоприменителей» [подр.: 16, с. 42]. Тогда как ст. 288 УПК РФ, не будучи подвержена указанным тенденциям, остается одним из приятных исключений, рассчитанных на подлинно профессиональ- ных, понимающих смысл закона и осознающих ответственность за должное выполнение своих обязанностей представителей судейского корпуса.
Да и вообще, ввиду понятных причин, в первую очередь связанных с очевидными организационно-техническими сложностями, возникающими в ходе подготовки и проведения «следственных» опытов и испытаний, их «удельный вес» в общем объеме осуществляемых судами когнитивно-удостоверительных приемов не так уж и велик. Хотя нельзя не отметить достаточно широкий диапазон «цифр», полученных по этому поводу различными исследователями в разных регионах России. В некоторых публикациях приводятся результаты опросов судей, абсолютное большинство которых вообще никогда не прибегали к помощи судебных экспериментов. Другие ученые указывают на значительно меньшее количество респондентов, не сталкивающихся в свой практике с проведением подобных приемов. Автором статьи в результате проведенных несколько лет назад собственных исследований, посвященных проблемам результатов невербальных следственных и судебных действий, были получены следующие «цифры»: сведения о производстве судебных экспериментов удалось обнаружить в 2% из более чем 650 уголовных дел, а о своем личном участии в таких действиях поведали 12,5% из более чем 300 опрошенных судей и других профессиональных участников судебных заседаний. Кроме того, были выявлены многочисленные случаи отказов в удовлетворении ходатайств, в первую очередь участников со стороны защиты, о проведении судебных экспериментов, аргументирован- ных невозможностью реконструкции обстановки или иных условий, необходимых для выполнения требуемых опытов [подр.: 15, с. 428-429].
Таким образом, гораздо более разумным представляется не затевать очередной (какой по счету?) раунд уголовно-процессуального правотворчества, а постараться достичь должного выполнения вытекающих из смысла ст. 288 УПК РФ в ее системном единстве со ст. 181 УПК РФ законодательных предписаний и устранить, по крайней мере минимизировать, возникающие в практике проведения «следственных» опытов и испытаний ошибки и оплошности посредством качественного доктринального и методического обеспечения судебной, прокурорской и адвокатской деятельности. Рассмотренные в настоящей статье нюансы и тонкости надлежит подробно разъяснять в учебно-методической литературе, в научно-практических комментариях к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, в иных подобных источниках. Кроме того, их разумно доводить до сведения «аудитории» в ходе реализации вузовских программ высшего юридического образования, краткосрочных программ повышения квалификации практических работников и проведения разовых занятий по служебной подготовке. И, наконец, вполне приемлемым видится разъяснение указанных вопросов Пленумом Верховного Суда РФ, что, например, может быть обеспечено посредством внесения соответствующих дополнений в известное постановление Пленума от 19 декабря 2017 г. N 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)».
Список литературы «Следственные» опыты и испытания в судебном производстве по уголовному делу: вопросы нормативного регулирования и правоприменительной практики
- Александрова, С.А. Судебные действия, осуществляемые судом первой инстанции в уголовном судопроизводстве России: понятие, виды, процессуальный режим: дис.... канд. юрид. наук / С.А. Александрова. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2010. – 253 с.
- Ароцкер, Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве / Л.Е. Ароцкер. – М.: Юридическая литература, 1964. – 223 с.
- Ароцкер, Л.Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике: дис. … канд. юрид. наук / Л.Е. Ароцкер. – Харьков, 1951. – 311 с.
- Белкин, Р.С. Теория и практика следственного эксперимента / Р.С. Белкин. – М.: Высшая школа МВД СССР, 1959. – 171 с.
- Белкин, Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Р.С. Белкин. – М.: Юридическая литература, 1964. – 223 с.
- Васильев, А.Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. – М.: Юридическая литература, 1984. – 143 с.
- Васяев, А.А. Теория исследования доказательств в российском уголовном процессе / А.А. Васяев. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 472 с.
- Воробьёв, Г.А. Тактика и психологические особенности судебных действий / Г.А. Воробьёв. – Краснодар: Издательство Кубанского университета, 1986. – 87 с.
- Гуковская, Н.И. Право суда на производство следственного эксперимента / Н.И. Гуковская // Советская юстиция. – 1958. – N 4. – С. 35-38.
- Диденко, Ф.К. Следственный эксперимент в практике органов военной юстиции / Ф.К. Диденко. – М.: Военно-политическая краснознаменная академия имени В.И. Ленина, 1957. – 32 с.
- Загорский, Г.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства по уголовным делам / Г.И. Загорский. – М.: Проспект, 2014. – 311 с.
- Кореневский, Ю.В. Криминалистика для судебного следствия / Ю.В. Кореневский. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. – 198 с.
- Кореневский, Ю.В. Установление противоречий в доказательствах / Ю.В. Кореневский // Советская юстиция. – 1992. – N 4. – С. 7-8.
- Корчагин, А.Ю. Судебное разбирательство уголовных дел: понятие, организация, тактика / А.Ю. Корчагин. – М.: Юридический мир, 2006. – 141 с.
- Россинский, С.Б. Концептуальные основы формирования результатов «невербальных» следственных и судебных действий в доказывании по уголовному делу: дис. … докт. юрид. Наук / С.Б. Россинский. – М., 2015 – 525 с.
- Россинский, С.Б. УПК Российской Федерации: воплощение «высокого» предназначения уголовно-процессуальной формы или «памятка» для безграмотных правоприменителей? / С.Б. Россинский // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2021. – N 6. – С. 42-47.
- Россинский, С.Б. К вопросу о развитии теории доказательств в уголовном процессе / С.Б. Россинский // Российский криминологический взгляд. – 2013. – N 3. – С. 354-365.
- Россинский, С.Б. Сущность результатов невербальных следственных и судебных действий как доказательств по уголовному делу / С.Б. Россинский // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – N 9. – С. 85-91.
- Россинский, С.Б. Уголовно-процессуальная форма VS правила уголовно-процессуального делопроизводства / С.Б. Россинский // Труды Института государства и права РАН. – 2023. – Т. 18. – N 1. – С. 116-135.
- Сысков, В.Л. Доказательственная деятельность суда первой инстанции по уголовным делам: дис.... канд. юрид. наук / В.Л. Сысков. – Челябинск, 2006. – 279 с.
- Чеджемов, Т.Б. Судебное следствие / Т.Б. Чеджемов. – М.: Юридическая литература, 1979. – 92 с.
- Шейфер, С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение / С.А. Шейфер. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 183 с.
- Элькинд, П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права / П.С. Элькинд. – М.: Юридическая литература, 1967. – 192 с.