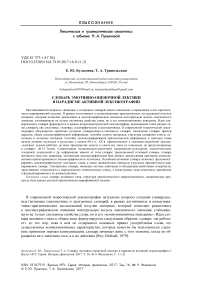Словарь эмотивно-оценочной лексики в парадигме активной лексикографии
Автор: Булыгина Елена Юрьевна, Трипольская Татьяна Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание. Лексическая и грамматическая семантика: к юбилею Н. А. Лукьяновой
Статья в выпуске: 9 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы, связанные с созданием словарей нового поколения и отражением в них прагматически маркированной лексики. В рамках когнитивных и коммуникативно-прагматических исследований получен материал, который позволяет реализовать в лексикографическом описании интегральную модель лексического значения, учитывающую не только системные свойства слова, но и его коммуникативное поведение. Идея универсального словаря формируется в рамках антропоцентрической лексикографии, включающей такие разные типы словарей, как системные, толковые, идеографические и ассоциативные. В современной теоретической лексикографии обсуждаются проблемы создания универсального / активного словаря: назначение словаря, фактор адресата, объем лексикографической информации, способы подачи материала, структура словарной статьи, источники и метаязык описания. Способы лексикографирования прагматической информации в значении слова начали активно изучаться в русистике с начала 80-х гг. ХХ в. применительно к эмотивно-оценочной лексике: «лингвист должен работать на всем пространстве лексем и учесть все типы их поведения, не предусмотренные в словаре» (В. Н. Телия). Семантизация эмоционально-оценочной, национально-культурной, идеологической, гендерной, социальной и др. информации зависит от типа словаря: традиционный толковый словарь, словарь активного типа или, например, электронная лексикографическая база данных, реализующая принципы коммуникативно ориентированного лексикографического источника. Подобный активный словарь позволяет продемонстрировать лексикографическую «историю» слова, а также динамические процессы в русском прагматически маркированном словаре. Электронные словари, имеющие систему навигации и обладающие свойствами гипертекста, представляют отнесенность к определенному тематическому классу, а также разные зоны семантики, прагматики и функционирования в их взаимодействии.
Словарь активного типа, структура прагматического макрокомпонента, динамические процессы, база данных русской прагматически маркированной лексики
Короткий адрес: https://sciup.org/147219841
IDR: 147219841 | УДК: 81'373 | DOI: 10.25205/1818-7919-2017-16-9-11-21
Текст научной статьи Словарь эмотивно-оценочной лексики в парадигме активной лексикографии
В современной теоретической лексикографии актуальны вопросы создания универсальных / активных одноязычных и двуязычных словарей: в рамках когнитивных и коммуникативно-прагматических исследований получен материал, который позволяет реализовать в лексикографическом описании интегральную модель лексического значения, учитывающую не только системные свойства слова, но и его «коммуникативное поведение». Идея словаря активного типа в общем виде формулируется следующим образом: словарь «не работает» до тех пор, пока в нем не содержится основных правил употребления слова, его существенных коммуникативных характеристик, которые помогли бы пользователю следовать принятым нормам коммуникации, словарь начинает жить с того момента, когда он обращается не к значению слов, а к их действию [Rey, Delesall, 1979].
Булыгина Е . Ю ., Трипольская Т . А . Словарь эмотивно - оценочной лексики в парадигме активной лексикографии // Вестн . НГУ . Серия : История , филология . 2017. Т . 16, № 9: Филология . С . 11–21.
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Том 16, № 9: Филология
Концепция активного / универсального словаря получила дальнейшее развитие в современной науке. Проблемы лексикографирования прагматической информации начали активно обсуждаться в русистике с начала 80-х гг. ХХ в. применительно к экспрессивной (эмотивно-оценочной) лексике. В исследованиях новосибирских, московских и волгоградских лингвистов обосновывается необходимость создания специальных словарей экспрессивной лексики, содержащих дополнительную информацию об этом типе лексического значения и особенностях его функционирования [Лукьянова, 1984; Лукьянова, Трипольская, 1984; Телия, 1986], а также предприняты первые опыты лексикографического описания [Лаврентьева, 1980; Лаврентьева и др., 1998; Булыгина, Трипольская, 1998].
Примерно в это же время в работах В. Г. Гака и В. В. Морковкина обсуждаются проблемы создания универсальных одно- и двуязычных словарей, включающих энциклопедическую, культурно-историческую и этнолингвистическую информацию о слове [Гак, 1988], соотношения антропоцентрического и лингвоцентрического подходов в лексикографировании [Морковкин, 1988], а также концепция словарей активного типа под руководством Ю. Д. Апресяна [Апресян, 1988а; 1988б; 2014]. Идея универсального словаря формируется в рамках антропоцентрической лексикографии, включающей такие разные типы словарей, как «Русский семантический словарь» Н. Ю. Шведовой [2000], «Русский ассоциативный словарь» [Караулов и др., 1994], «Французско-русский словарь активного типа» под редакцией В. Г. Гака и Ж. Триомфа [1998].
Во всех этих работах обсуждаются вопросы назначения подобного словаря, адресата, объема лексикографической информации, способов подачи материала, источников и метаязыка описания.
Разработка словаря эмотивно-оценочной лексики включается в более общую проблему создания словарей активного типа, которые предполагают, что именно словарь активного типа, по мнению В. Н. Телия, может отразить семантику номинативных средств с учетом их коммуникативных функций с помощью «введения пресуппозиций (или фоновых знаний) в правила употребления слов» [Телия, 1986. С. 127].
Прагматическая информация (эмоционально-оценочная, национально-культурная, идеологическая, гендерная, социальная и др.) недостаточно осмыслена как объект лексикографического описания и представлена в классических толковых словарях неполно, непоследовательно и часто спорно: авторы этих словарей не могли опираться на результаты специальных исследований прагматической семантики. Отметим, что в современных толковых словарях эта проблема остается не решенной, несмотря на современную источниковую базу (например, Национальный корпус русского языка) и имеющийся серьезный опыт современной семасиологии.
Обсуждение словарей нового поколения идет в двух связанных между собой направлениях: объем словаря и его коммуникативная направленность. Отсюда и два термина – активный и универсальный словари. Наличие двух этих терминов, которые часто используются не дифференцированно, требует специального обсуждения. При ближайшем рассмотрении термины «активный» и «универсальный» понимаются как синонимы: так называемая «активная информация о слове», упор на прагматическую составляющую в словарной статье, что позволяет увидеть коммуникативные «правила» употребления слова [Rey, Delesall, 1979], в российской лексикографии, видимо, включается в универсальную информацию о языковой единице. Так, Ю. Д. Апресян, по сути, не разграничивает эти термины, акцентируя противопоставление активного и пассивного (традиционного) словарей. С точки зрения Ю. Д. Апресяна, можно выделить два основных отличия «пассивного» и «активного» словарей: активные словари «предназначены для того, чтобы обеспечить нужды говорения или, более широко, нужды производства текстов. <…> Основная формула канонического активного словаря – существенно меньше слов <…>, но по возможности полная, в идеале исчерпывающая информация о каждом слове, необходимая для его правильного употребления в собственной речи говорящих» [Апресян, 2014. С. 6–7].
Для российских лексикографов, обсуждающих в рамках «активной» лексикографии проблему соотношения лингвистической и энциклопедической информации в словаре, первостепенным стал «уход» от минимализации классических толковых словарей [Гак, 1988], словарные статьи которых отражают дифференциальную модель лексического значения, практически исключая энциклопедическую и прагматическую информацию о слове: «…воз-никает впечатление, что авторы словарей – толковых и переводных – создают для себя “внутреннюю цензуру”, вынуждающую их намеренно отказываться от пояснений энциклопедического типа и ограничиваться семантическими указаниями (“ближайший род и видовое отличие”)» [Гак, 1988. С. 122].
Анализ лексикографического описания позволяет рассматривать словарную статью как текст высокой степени компрессии: может быть, не столько «внутренняя цензура» лексикографа, сколько жанр толкового словаря предполагает минимальный объем текста с максимальной смысловой нагруженностью. К числу парадоксов Н. Ю. Шведова относит «максимальную концентрированность информации, заложенной в самом жанре словарной статьи – присущую ей потенцию восстановления общей картины классов», «всеобщую связанность всех константных свойств в слове – их искусственное разъятие в словарной статье как обязательное условие самого ее существования», и, наконец, «слово как единицу, не знающую состояния покоя, – представление слова в словарной статье как единицы, находящейся в состоянии покоя» [Шведова, 1988. С. 9].
Попытка обращения / возвращения к принципу энциклопедизма в словаре, подразумевающая отражение коммуникативных свойств слова и элементов «наивной», или языковой, картины мира, неизбежно влечет за собой существенную модификацию словарной статьи: происходит увеличение объема семантической и прагматической информации, и, следовательно, изменяется конфигурация словарной статьи.
Признавая актуальным весь круг проблем, связанных с новым типом словаря, сосредоточимся на первостепенных вопросах объема и соотношения семантической и прагматической информации, характерной для эмотивно-оценочного слова. Мы исходим из того, что лексикографическому описанию предшествует специальное системное и коммуникативно-прагматическое исследование определенного фрагмента словаря.
Применительно к гетерогенному эмотивно-оценочному лексическому значению остро встает вопрос лексикографической интерпретации широкой вариативности денотативной и коннотативной (и шире – прагматической) семантики. Вариативность проявляется в целом спектре негативных коннотаций (от насмешливой до презрительной и крайне отрицательной оценки), или оценка варьируется от плюса до минуса.
Кроме того, актуальными являются связанные с оценкой гендерные, социальные и национально-культурные компоненты прагматической зоны значения. От типа словаря зависит, каким образом и в каком объеме могут быть представлены эти элементы семантики слова: традиционный толковый словарь, словарь активного типа и электронная лексикографическая база данных, реализующая принципы коммуникативно ориентированного лексикографического источника. Традиционный словарь располагает известной структурой словарной статьи, в которой эмотивно-оценочная семантика по большей части представлена в системе специальных помет и иллюстративном материале. Имплицитно здесь реализуется деление словарной статьи на зоны: денотативное значение – в толковании, прагматические смыслы – в цитатном материале и в эмоционально-оценочных пометах. Идея зонового деления словарной информации достаточно последовательно реализована в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова [1935–1940].
Прагматическое содержание эмотивно-оценочного слова, составляющее его семантическую специфику, отражается при помощи специальных эмоционально-оценочных помет. Так, в словаре С. И. Ожегова около 30 % существительных со значением лица и 2,2 % прилагательных имеют пометы пренебр., неодобр., бран. и т. п. [Ожегов, 1960]. В БАС соответственно 27 и 4 %, а в MAC – 2,5 % прилагательных.
Кроме того, эмоционально-оценочная семантика передается специальными метасловами, включенными в дефиницию: например, наречия очень, слишком, чересчур, много, часто и др. используются для отражения семы ‘высокая степень признака’, прилагательные хороший, плохой и их синонимы – семы оценки. Что касается правил употребления экспрессивной лексики, т. е. соотнесенности экспрессивного слова с речевой ситуацией, фактора адресата, синтаксической валентности, то такая информация либо вообще отсутствует в толковых словарях, либо ее явно недостаточно. А эти сведения важны для отражения коммуникативных свойств экспрессивного слова, а также необходимы тем, кто пользуется словарем. Как отме- чает В. Н. Телия, экспрессивные средства языка и лексика в частности остаются как бы за бортом современных исследований прагматической функции языка [Телия, 1986], а основным материалом чаще всего являются местоимения, частицы и модальные слова и словосочетания, хотя «оценочные слова – материал для обоснования прагматической концепции значения» [Арутюнова, 1985. С. 13].
Для иллюстрации высказанных положений предлагаем словарные статьи, разработанные авторами публикации в словарях и словниках экспрессивной лексики (1980–1998) и словарные статьи из Базы данных прагматически маркированной лексики 1.
Материалы для словаря эмотивно-оценочной лексики
Семантико-прагматический анализ показал, что наиболее существенными для «лингвистического поведения» эмотивно-оценочного слова являются факторы адресата и адресанта, а также сочетаемостные свойства лексической единицы. Однако поскольку у прилагательных и существительных разная категориальная семантика, то при характеристике их с коммуникативной точки зрения на первый план выдвигаются разные аспекты прагматически существенной информации. Так, для существительных наиболее значимым является употребление / неупотребление применительно к 1, 2, 3-му лицу, а для прилагательных важно учесть круг денотатов, которому приписывается определенный признак. Ср.:
СУМАСШЕДШИЙ. 1. О чём-л. крайнем, исключительном (по величине, степени и т. д.). С. упорство, несправедливость, размах, темп, нежность. Усилит. - Кондратьев молчал, за -крыв глаза, с наслаждением ощущая, как отступает, затихает, исчезает сумасшедшая боль (А. и Б. Стругацкие. Полдень, XXII в.). 2. О чел., не сдерживаемом доводами рассудка, поступающем вопреки принятым нормам; неблагоразумном, безрассудном. Эмоц.-оцен. – У нас есть свой биолог. Прекрасный биолог Перси Диксон. Он немножко сумасшедший, но он доставит вам образцы, какие угодно и в любых количествах (снисх.) (А. и Б. Стругацкие. Полдень, XXII в.); ... Поистине, будто ее несет ветром. Черт возьми, как неосторожно... бежать со всех ног по серпантину... сумасшедшая... да, а все - таки здорово это у нее полу -чается, лихо (восхищ.) (С. Цвейг. Кристина Хофленер); - Мне налево, - сказал Левочка, он жил на Сретенке, - ладно, плюньте, сумасшедшая баба. Ну, пока! (крайне неодобр.) (А. Рыбаков. Дети Арбата).
ТРУС, м. Трусливый человек. Эмоц.-оцен. - Не хочу верить, <...> чтобы женщина могла любить, а мужчина уважать труса (презр.) (А. Марлинский. Фрегат «Надежда»); От воро-ны карапуз убежал, заохав. Мальчик этот просто трус. Это очень плохо (крайне неодобр.) (В. Маяковский. Что такое хорошо и что такое плохо). Не употр. с 1 л. *Я, знаете, такой трус...
ТРУСИХА, ж. Легко поддающаяся чувству страха, боязливая женщина или девочка. Эмоц.-оцен. - ... Но какой ужас! Олег съезжает <...> Ой! Верочка, зачем ты лезешь в эту путаницу ? Ведь все у тебя шло так гладко... Сними же руку с этой железяки! Беги! Труси -ха! Посмотри на его лицо. Боксер устал. Любимый парень! Она пойдет с ним, куда угодно... (презр.) (В. Аксенов. Коллеги); - Ах, что там, в кустах? - Там? Ничего! Не бойтесь, прошу вас! - Я, знаете, такая трусиха (кокетливо) (разг. речь); - Успокойся, все уже позади. Ты моя маленькая трусиха (сочувств.) (разг. речь) [Булыгина, Трипольская, 1998. С. 98-111].
Основным источником материала для словаря активного / универсального типа становятся «пассивные» словари и, конечно, специальные исследования, целью которых является «портретирование» слова. Однако лексикографический материал толковых словарей в разной степени оказывается полезным для словаря, учитывающего «коммуникативное поведение слова».
В словарях активного типа [Апресян, 2014] выделены зоны сочетаемости, зоны ассоциаций, способствующих образованию переносных оценочных значений, зона синонимов и зона лексических и грамматических правил употребления. Электронные словари, имеющие систему навигации и обладающие свойствами гипертекста, способны представить зоны семантики, принадлежности к определенному тематическому классу, прагматики и функционирования в их взаимодействии.
Электронная база данных прагматически маркированной лексики, разработанная в Новосибирском государственном педагогическом университете, призвана отобразить лексическую единицу с учетом ее коммуникативно-прагматических особенностей. В Базе данных развиваются идеи и реализуются лексикографические разработки Новосибирской семантической школы, руководителем которой является доктор филологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Н. А. Лукьянова.
Электронный лексикографический ресурс состоит из двух частей: первая содержит материалы классических толковых словарей, а вторая представляет собой лексикографирование прагматически маркированного значения с учетом его вариативного потенциала. Структура Базы данных подробно описана в статье Е. Г. Басалаевой [2016]. Семантизация предполагает описание всех прагматических микрокомпонентов в их взаимодействии. Мы используем традиционный лексикографический инструментарий: система помет и иллюстративный материал, однако каждый прагматический компонент представлен в отдельной рубрике / зоне.
На основе традиционной лексикографической практики разработана система помет, отражающих эмотивный, оценочный, гендерный, социальный, возрастной, национально-культурный компоненты. Список используемых помет:
-
1) о круге денотатов, которым приписывается данный признак – о чел. (о человеке); о чём-л. (о предмете); о ком-, чём-л. (о человеке и предмете);
-
2) об адресате / адресанте, получающем экспрессивную характеристику – употр. / не употр. с 1, 2 л.;
-
3) о поле, возрасте и социальном статусе субъекта, которому приписывается экспрессивная характеристика – о муж. (о мужчине), о жен. (о женщине), о реб. (о ребенке); «сверху → вниз», «снизу → вниз».
Для эмотивно-оценочных существительных и прилагательных наиболее актуальными являются следующие пометы: о человеке; о чем-либо, о ком-, чем-либо; употребляется / не употребляется по отношению к 1, 2 лицу; о женщине / о мужчине / о ребенке; о социальном статусе говорящего и слушающего («сверху → вниз» и «снизу → вверх»).
Кроме того, включен и отрицательный языковой материал, о «лексикографической» ценности которого писал Л. В. Щерба: «“Отрицательный языковой материал”, искусно подобранный и снабженный соответственным знаком, мог бы быть очень полезным в нормативном словаре (особенно для борьбы с естественными, но неупотребительными словосочетаниями)» [Щерба, 1974. С. 282]. Отрицательный языковой материал вводится под знаком асте-риск (*), который предложил Л. В. Щерба. Мы не считаем целесообразным введение отрицательного языкового материала в каждую словарную статью, однако это необходимо в ряде случаев, особенно если говорящие некорректно употребляют прагматически маркированные слова.
В материалах для словаря эмотивно-оценочной лексики используются «родовая» и «видовая» пометы: «эмоц.-оцен.» и ее варианты в различных коммуникативных ситуациях. В Базе данных в качестве родовой пометы используется «одобр.» и «неодобр.». Вопрос выбора между пометами «эмоц.-оцен.» и «одобр.» / «неодобр.» остается открытым: в лексикографической практике помета «одобр.» / «неодобр.» более привычна, а помета «эмоц.-оцен.» позволяет учитывать вариативный потенциал оценочной семантики от плюса до минуса.
Приведем пример лексикографической интерпретации метафорического значения слова паук в Базе данных прагматически маркированной лексики. Мы представим не всю семантическую структуру слова, а только прагматически маркированное переносное значение (Значение 2).
|
Слово паук |
Тематическая принадлежность: характеристика человека 2. Перен. Символ жестокой и ненасытной жадности, эксплоатации. |
|
ТСУ |
Пауки - мироеды . - Пососал ты из меня крови, высосал и вон... Ах ты... паук! М. Горький 2. Перен. Разг. О жестоком человеке, эксплуатирующем чужой труд, вымогающем у другого последнее достояние. - [Миловидов] был подрядчиком на шахтах, вернулся в село перед |
|
БАС |
войной, стал держать тайный шинок с закладом... Такой паук, ростовщик, сволочь, - все село высосал по мелочам. А. Н. Толст. Хмур. утро; - Пососал ты из меня крови, высосали вон меня! Ловко! Ах ты - паук! М. Горький, Коновалов. 2. Разг. О том, кто жестоко эксплуатирует кого-л. - [Миловидов] |
|
МАС |
был подрядчиком на шахтах, вернулся в село перед войной, стал держать тайный шинок с закладом... Такой паук, ростовщик, - все село высосал по мелочам. А. Н. Толстой, Хмурое утро. |
|
ТСОШ |
Пауки в банке - о хищных, злых людях, борющихся друг с другом. |
|
ТСРЯ ХХ |
нет 2. Разг. О том, кто жестоко эксплуатирует кого-л. Ты настоящий п., |
|
БТС |
сосёшь из меня все силы. Паучок, -чка; м. Уменьш. (1 зн.). Паучки-водомеры. Паучий |
|
Словарь прагматически маркированной лексики: |
Хитрый, коварный, опутывающий свою жертву паутиной, нередко агрессивный, не брезгующий ничем ради наживы и собственной выгоды; использующий другого для удовлетворения собственных нужд - Ну. «Е - Ё» будет мне, сам понимаешь. «Х» мы делаем напо-полам с одним профессором, а «Б» пришлось отдать ему же, по -тому что у него связи среди издателей еще больше моих. Но я ему, пауку очкастому , это припомню. А ты возьми «М», «Л», да -же, может быть, «С», если подкинешь деньжат... Тряхнем ВМПС имени Тургенева, как остроумно сказал один современный писа-тель. - Что тряхнем ? [Леонид Саксон. Принц Уэльский // «Октябрь», 2001] (крайне неодобр.); В частности осуществители |
|
Иллюстративный материал: |
диктатуры пролетариата сами перегрызли друг друга как пауки в банке [Национал-анархизм (форум) (2006)] (презрит.-неодобр.); Я вывернута наизнанку: не знаю, как смогу пережить все, что вижу, - людей; взаимоотношения; страсти; взятки; борьбу за до -ходные места; за места, на которых можно выжить; за кусок хлеба - пауки в банке , только в банке побеждает сильнейший, а здесь хитрейший, подлейший [Татьяна Окуневская. Татьянин день (1998)] (презрит.-неодобр.); Конечно, самая лакомая и самая без -защитная жертва этих редакционно - издательских пауков - автор молодой и начинающий [А. Мильчин. В лаборатории редактора Л. Чуковской // Октябрь, 2001] (неодобр.-ирон.); А у меня на девок |
|
волчий интерес, люблю это дело, как паук [В. Гроссман. Жизнь и судьба] (шутл.-ирон.); Ты погубила меня, высосала по капле всю кровь! Паучиха ! [Б. Акунин. Чайка, 2001] (неодобр.-обвинит.). |
|
|
Эмоциональнооценочный компонент – положительный: |
Нет |
|
Эмоциональнооценочный компонент – отрицательный: |
Неодобр. |
|
Идеологический компонент: |
В современном языке нет. |
|
Гендерный компонент: |
О мужчине (в единственном числе); о мужчинах и женщинах (во множественном числе); о женщине – паучиха. |
|
Национальнокультурный компонент: |
Метафоры с иной семантикой есть в испанском языке: araña 1) паук; 2) ловкач, проныра; в итальянском языке: rango 1) паук; 2) о высоком, худом, нескладном человеке; ragnetto 1) паучок; 2) о маленьком подвижном ребёнке. |
|
Возрастной компонент: |
О взрослом человеке |
|
Социальный компонент: |
Нет |
* Все примеры взяты из Национального корпуса русского языка [ Электронный ресурс ]. URL: ruscorpora.ru ( да та обращения 17.07.2016).
Возможности Базы позволяют показать лексикографическую «историю» слова: одно и то же метафорическое значение «эксплуататор-мироед» с соответствующим иллюстративным материалом из произведений М. Горького и А. Н. Толстого или вовсе без примеров «кочует» из словаря в словарь от ТСУ (1935–1940 гг.) до «Большого толкового словаря русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова [БТС, 1998]. Если для словарей первой половины ХХ в. было вполне адекватным отражение идеологического (класс угнетателей) и социального (социальное неравенство эксплуататора и эксплуатируемого) компонентов, порождающих отрицательную оценку, то к концу ХХ в. семантика метафоры очевидным образом изменилась: о человеке хитром, коварном, агрессивном, не брезгующим ничем ради наживы и собственной выгоды; использующим других для удовлетворения собственных нужд. Идеологический и социальный компоненты утратились, метафора начала отражать межличностные отношения, связанные с использованием результатов чужого труда / идей / положения в обществе и борьбой за место под солнцем (см. ТСОШ: как пауки в банке). Отрицательная оценка по-прежнему актуальна для этого лексического значения, однако ее основания существенно изменились.
Кроме того, сопоставительное исследование метафорических систем разных языков позволяет выявить национально-культурную специфику русской прагматически маркированной единицы: метафоры с иной семантикой есть в испанском языке: araña 1) паук; 2) ловкач, проныра; в итальянском языке: rango 1) паук; 2) о высоком, худом, нескладном человеке; ragnetto 1) паучок; 2) о маленьком подвижном ребёнке [Мусси, 2013].
Национально-культурную специфику этой метафоры составляет и возрастная характеристика лица: только о взрослых в русском языке и о взрослых и детях – в итальянском. Кроме того, метафора соотносится в первую очередь с лицом мужского пола или с лицами обоих полов (паук – о мужчине и пауки в банке – гендерная сема нейтрализуется); в русском языке употребляется, хотя значительно реже, и эмотивно-оценочная лексема паучиха.
Подведем итоги.
Электронная база данных позволяет продемонстрировать динамические процессы в русской прагматически маркированной лексике: в нашем случае это утрата идеологического и социального компонентов и приобретение новых денотативных и коннотативных сем, определяющих прагматическую семантику слова в настоящее время.
Обращение к принципу универсализма в зарубежной и отечественной лексикографии связано с коммуникативно-когнитивными аспектами изучения слова, с накоплением сведений об интегральной структуре лексического значения, о коммуникативных свойствах слова, о факторах адресата и адресанта. Поиск и выбор термина для обозначения словаря нового типа обусловлен тем объемом необходимой и достаточной информации о слове, которая должна быть включена в словарь, с точки зрения лексикографа, – энциклопедической и прагматической.
Разработка лексикографических источников нового поколения, таких как База данных прагматически маркированной лексики, позволяет включить в лексикографическое описание те элементы семантики, которые определяют коммуникативное поведение слова, т. е. соответствуют требованиям словаря активного типа.
Список литературы Словарь эмотивно-оценочной лексики в парадигме активной лексикографии
- Апресян Ю. Д. Прагматическая информация для толкового словаря//Прагматика и проблемы интенсиональности/Ин-т языкознания АН СССР. Проблемная группа «Логический анализ языка». М.: Наука, 1988а. С. 3-22.
- Апресян Ю. Д. Типы коммуникативной информации для толкового словаря//Язык: система и функционирование. М.: Наука, 1988б. С. 10-22.
- Апресян Ю. Д. Об Активном словаре русского языка//Активный словарь русского языка. М.: Языки славянской культуры, 2014. Т. 1. С. 5-32.
- Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории прагматики//Новое в зарубежной лингвистике/Под ред. Е. В. Падучевой. М.: Прогресс, 1985. Вып. 16: Лингвистическая прагматика. С. 21-38.
- Басалаева Е. Г. Прагматический макрокомпонент и способы его семантизации в электронной базе данных//Вестн. Новосиб. гос. пед. ун-та. 2016. № 6. С. 112-125. DOI: 10.15293/2226-3365.1606.09
- Булыгина Е. Ю., Трипольская Т. А. Способы выражения прагматической информации экспрессивного слова в словаре (опыт исследования и материалы к словарю) // Языковые единицы в семантическом и лексикографическом аспектах: Межвуз. сб. науч. тр./Под ред. Н. А. Лукьяновой. Новосибирск, 1998. Вып. 2. С. 94-111.
- Гак В. Г. Проблема создания универсального словаря (энциклопедический, культурно-исторический и этнолингвистический аспекты)//Национальная специфика языка и её отражение в словаре/Под ред. Ю. Н. Караулова. М.: Наука, 1988. С. 119-125.
- Лаврентьева Н. Б. Экспрессивно-выразительная глагольная лексика (на материале говоров Новосибирской области): Дис.... канд. филол. наук. Новосибирск, 1980. 207 с.
- Лаврентьева Н. Б., Новоселова О. А., Храмцова Л. Н. Материалы к словарю экспрессивной лексики говоров Новосибирской области//Языковые единицы в семантическом и лексикографическом аспектах: Межвуз. сб. науч. тр./Под ред. Н. А. Лукьяновой. Новосибирск, 1998. Вып. 2. С. 119-137.
- Лукьянова Н. А. Словарь экспрессивной лексики говоров Новосибирской области (Принципы составления словаря)//Лексика и фразеология языков народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 48-58.
- Лукьянова Н. А., Трипольская Т. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления как специфический объект лексикологии и лексикографии // Экспрессивность на разных уровнях языка. Новосибирск, 1984. С. 114-130.
- Морковкин В. В. Антропоцентрический версус лингвоцентрический подход к лексикографированию//Национальная специфика языка и её отражение в словаре/Под ред. Ю. Н. Караулова. М.: Наука, 1988. С. 131-136.
- Мусси В. Энтомологические звуковые и зрительные метафоры в русском и итальянском языках//Проблемы интерпретационной лингвистики: типы восприятия и их языковое воплощение/Под ред. И. П. Матхановой. Новосибирск, 2013. C. 182-189.
- Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 141 с.
- Шведова Н. Ю. Парадоксы словарной статьи//Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре/Под ред. Ю. Н. Караулова. М.: Наука, 1988. С. 6-11.
- Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии//Языковая система и речевая деятельность. Л.: Наука, 1974. С. 265-304.
- Rey A., Delesalle S. Problèmes et conflits lexicographiques//Langue française. 1979. № 43.
- Dictionnaire, sémantique et culture, sous la direction de Simone Delesalle et Alain Rey. P. 4-26.
- DOI: 10.3406/lfr.1979.6160
- Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950-1965.
- Большой толковый словарь русского языка/Сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норит, 1998.
- Караулов Ю. Н., Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф., Уфимцева Н. В., Черкасова Г. А. Русский ассоциативный словарь. М., 1994.
- Словарь русского языка: В 4 т./Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М., 1981-1984.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. 4-е изд., испр. и доп. М.: Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1960. 900 с.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999.
- Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения/Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб.: Изд-во ИЛИ РАН, 1998.
- Толковый словарь русского языка/Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: ОГИЗ, 1935-1940. Т. 1-4.
- Французско-русский словарь активного типа/Под ред. В. Г. Гака, Ж. Триомфа. 2-е изд. М.: Русский язык, 1998.
- Шведова Н. Ю. Русский семантический словарь. М.: Азбуковник, 2000. Т. 1-2.