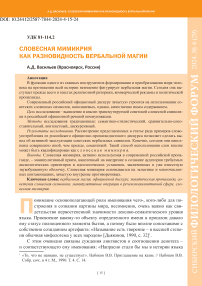Словесная мимикрия как разновидность вербальной магии
Автор: Васильев А.Д.
Журнал: Сибирский филологический форум @sibfil
Рубрика: Языкознание: динамика языковых единиц
Статья в выпуске: 4 (29), 2024 года.
Бесплатный доступ
В функции одного из главных инструментов формирования и преобразования мира человека на протяжении всей истории неизменно фигурирует вербальная магия. Сегодня она выступает прежде всего в текстах религиозной риторики, коммерческой рекламы и политической пропаганды. Современный российский официозный дискурс зачастую строится на использовании советских словесных символов, наполняемых, однако, качественно иным содержанием. Цель исследования - выявление и анализ трансмутируемой советской словесной символики в российской официозной речевой коммуникации. Методы исследования традиционные: семантико-стилистический, сравнительно-сопоставительный, контекстный, дискурсивный. Результаты исследования. Рассмотрение представленных в статье ряда примеров словоупотребления из российского официозно-пропагандистского дискурса позволяет сделать вывод об активной эксплуатации советских вербальных символов. Конечно, сегодня они наполнены совершенно иной, чем прежде, семантикой. Такой способ использования слов вполне может быть квалифицирован как с л о в е с н а я м и м и к р и я.
Вербальная магия, официозный дискурс, политическая пропаганда, советская словесная символика, манипулятивные операции в речекоммуникативной сфере, словесная мимикрия
Короткий адрес: https://sciup.org/144163252
IDR: 144163252 | УДК: 81-114.2 | DOI: 10.24412/2587-7844-2024-4-15-24
Текст научной статьи Словесная мимикрия как разновидность вербальной магии
П онимание основополагающей роли именования чего-, кого-либо для построения в сознании картины мира, несомненно, очень важно как свидетельство первостепенной значимости лексико-семантического уровня языка. Присвоение какому-то объекту определенного имени в прошлом давало ему статус полноценного элемента бытия, а потому было вполне сопоставимо с собственно созиданием артефакта: «Называние есть творение - в высшей степени обычная мифологема у всех народов» [Дьяконов, 1990, с. 32]1.
С этим очевидно связаны суждения лингвистов о соотношении денотата – и соответствующего ему именования: «Напрасно стали бы мы в истории языка
-
1 «То, что не названо, не существует». Набоков В.В. Приглашение на казнь // Набоков В.В. Собр. соч:. в 4 т. М., 1990. Т. 4. С. 14.
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
искать того древнейшего периода, когда человек вполне сознавал свое слово: в старину он только менее отделял от него свою мысль. Потому слово <…> понимало сь в теснейшей связи с тем, что́ в ыр аж а ет » (здесь и далее разрядка наша. – А.В. ) [Буслаев, 1848, с. 8]. – «Слово есть самая вещь, и это доказывается не столько филологическою связью слов, обозначающих слово и вещь 2 , сколько распространен -ным на все слова верованием, что они обозначают сущ -ность явлений» [Потебня, 1976, с. 173] 3 .
Поскольку именование дает реалии бесспорное право на бытие, постольку и ее переименование могло осмысляться - согласно постулатам вербальной магии (см. [Васильев, 2013, с. 33–37; 2024, с. 30–35]) – как решительное изменение сущности предмета. Вербальная магия широко применяется и сегодня, например в религиозной риторике, коммерческой рекламе и политической пропаганде.
В современной российской речекоммуникативной практике вербальная магия используется довольно широко. Возможно, это отчасти объясняется вытеснением подлинного творчества как созидания его посильной имитацией - креативом. Это буквально наглядно наблюдается в переделках (римэйках ) советских художественных фильмов. Конечно, изготовленные таким легкодоступным способом киноленты несут в себе совершенно иные идейные установки и этические ориентиры, нежели их канонические прототипы. Но, вероятно, именно такими были критерии предоставления их производителям госбюджетного финансирования.
В области ведомственного строительства наиболее эпохальной реализацией вербальной магии стало превращение милиции в полицию (подробнее см. [Васильев, 2019, с. 91-103]) - впрочем, вероятно, соответствующее новоут-вержденному социально-экономическому укладу (правда, четкая и бесспорная его дефиниция сейчас не представляется возможной).
Однако наиболее активно вербально-магические операции применяются к называнию фрагментов Времени и участков Пространства. И такой подход не случаен: безошибочная ориентация человека и социума именно во временно́м и пространственном континууме дает возможность не только для более или менее комфортного существования и самоощущения, но и для выживания вообще.
По-видимому, в любом календаре любого государства константно присутствуют некие сакральные отрезки времени. Это – официально установленные в соответствии с определенными идеологическими ориентирами дни, предназначенные для празднования исторических событий, которые сыграли в истории
-
2 Ср. этимологию славянского *υěktь (русское и церковнославянское вещь), возводимую к индоевропейскому *ṵektos/*uktos ʽсказанное, изреченноеʼ; таким образом, вещь – это ʽто, что можно назватьʼ [Трубачёв, 1988, с. 9].
-
3 Такое понимание связи слова и вещи эксплуатировалось, в частности, и в советском официозе сталинского периода, когда «отождествлялись знак и денотат, что усиливало требование реалистичности изображения, доводя его иногда до абсурда» [Романенко, 2003, с. 288].
данной страны наиболее выдающуюся роль. Естественно, с уничтожением советской власти и советский календарь с его набором праздничных дат был решительно трансформирован. Правда, например, 1 Мая пока сохраняется. Но не как советский (и не только!) День международной солидарности трудящихся, а как классово нейтральный Праздник Весны и Труда. Естественным образом исчезла и советская Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции (7 ноября). Взамен ее административно возник День согласия и примирения (и тоже 7 ноября), вероятно, как символ окончательного классового мира. Однако и он был замещен еще менее внятным широким массам Днем народного единства (4 ноября). Наряду с указанными, в качестве государственного праздника зафиксировано Рождество Христово (в конституционно светском государстве и, как заявляют высокие руководители, в многоконфессиональной стране4) и т.п. (подробнее см. [Васильев, 2013, с. 268-278]).
В своеобразной гармонии с трансформациями календаря выступают топонимические новации. Их вектор с самого начала реформ также был недвусмысленным: избавиться от советских именований и заместить их по возможности якобы исторически первичными, а потому - правильными. Впрочем, даже наиболее известный пример этой деятельности оказался не вполне убедительным: северная столица, превращенная в 1991 г. из Ленинграда в Санкт-Петербург (оставшийся при этом административным центром Ленинградской области, как и Екатеринбург – Свердловской), при своем возникновении была шведской крепостью Нюэнсканс (по-немецки Ниеншанц), что и было «историческим именем» многострадального города.
Воздавая должное активности реформаторов от топонимии, следует сказать, что в неутомимости они не только не уступают на номофильском поприще своим предшественникам-революционерам, но, возможно, даже превзошли их, в частности, затруднив согражданам ориентацию в окружающем пространстве [Васильев, 2020, 2, с. 167–181].
В большой степени подобные процессы можно наблюдать на примере именования общественных организаций, прежде всего молодежных. Так, известно, что в Советском Союзе5 существовала для юношества трехступенчатая система гражданского воспитания: младшеклассники становились октябрятами (в честь Октябрьской революции), школьники чуть постарше - пионерами (то есть членами Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина), старшеклассники – комсомольцами (членами Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи). Все эти организации были массовыми и (под руководством идейно
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
выдержанных взрослых) занимались определенной деятельностью, давая при этом юношеству плодотворные навыки бытия в составе коллектива (а не «команды», как сегодня).
В современной России появились молодежные организации, также имеющие в своей деятельности определенные цели и претендующие на добровольное в них участие, но одовременно – и на массовость. Это «Молодая гвардия Единой России», иначе – «Молодая гвардия» (с 2005 г.). Следует учитывать, что именно так – «Молодая гвардия» – именовалась советская подпольная антифашистская комсомольская организация (1942 г., г. Краснодон), члены которой были преданы оккупантами и их пособниками жестоким пыткам и мучительной смерти. В этом случае очевидно присвоение новоучрежденным образованием героического ореола юных краснодонцев.
В 2022 г. было учреждено также «Движение первых» (ср. пионер – ʽпервый; первопроходец’), а недавно при Российском военно-историческом обществе создана «Страна Героев» - система лагерей для школьников. Ее название - очевидный фрагмент текста «Марша энтузиастов», песни из советского художественного фильма «Светлый путь» 1940 г.: «Здравствуй, с тр а н а г е р о е в, Страна мечтателей, страна ученых!».
До известной степени выделяющимся из ряда подобных именований можно считать «Общероссийский народный фронт» («Народный фронт»), созданный в 2011 г. Но и здесь есть прецеденты: существовали европейские анти -ф аш и с т с к и е «Народные фронты» («Народный фронт – форма организации широких народных масс, объединяющихся вокруг рабочего класса для борьбы против фашизма и войны, за демократию, мир, социальный прогресс» [МАС2, 1982, с. 389]). Ср. также позднейшее: в перестроечном СССР «Народный фронт, общественное объединение, деятельность которого направлена главным образом на борьбу за н а ц и о н ал ь н о е в о з р о ж д е н и е » [ТССРЯ, 2001, с. 495] – собственно, главной целью этих «народных фронтов» был безусловный выход ряда республик из состава Советского Союза, что и было успешно осуществлено.
Известны и менее удачные, то есть не санкционированные официально, попытки реактуализации вербальных символов советского периода. Так, предложение депутата Госдумы С. Бабурина впредь именоваться народными избранниками (как в СССР) его коллеги решительно отвергли6. Совсем недавно депутат А. Гурулев предложил вернуть в официально-правовой оборот словосочетание враг народа: «Острая необходимость в советском понятии враг народа. Враги есть, понятия не существует»7. И эта инициатива также не нашла поддержки: хотя словосочетание беспрепятственно используется для перифрастического обозначения т.н. иноагентов8 – в первую очередь открытых противников СВО, его применение в качестве термина способно существенно снизить пропагандистскую эффективность многих публичных речевых актов. Ведь эта фразема на протяжении ряда лет выступает важнейшим компонентом манипулятивного инструментария, в функции «носителя скрытой угрозы» [Расторгуев, 2003, с. 243], ассоциативно отсылая аудиторию к «сталинским репрессиям». Отсюда – главная причина невозможности ее введения в оборот в современной ситуации (подробнее см. [Васильев, 2023а, с. 6-11]; ср. сегодняшний характер использования существительного коллаборант [Васильев, 2023б]).
Так как в послесоветском общественном дискурсе естественно возникла весьма ощутимая лакуна - отсутствие общепринятого вокатива, столь необходимого «социального артикля»9, то время от времени становятся известными попытки внедрения разных его вариантов. В их числе и доминировавший ранее. Ср.: «– Вот вы выходите и начинаете [речь]: “Уважаемые господа !” А дальше что?! На самом деле [возникает] недоверие, потому что одни себя “господами” не считают, а другие - не хотят видеть рядом с собой “господ” . А когда обращаются “товарищи , друзья” - тут все понятно, - перенастраивал тональ -н о с т ь о б щ е й р и т о р и к и в парламенте председатель Госдумы Вячеслав Володин. Советское приветствие [? - А.В. ] “товарищ” сразу подхва-тили участники больших парламентских слушаний, собравшиеся для обсуждения предстоящих изменений в налоговом законодательстве»10.
Следует отметить, что для значительной части этой аудитории обращение товарищ было вполне привычным, хотя и основательно забытым. Ведь многие из присутствовавших совершенно добровольно ранее состояли в Коммунистической партии Советского Союза (тогда - правившей), затем, однако, превратившись в новоизобретенную «элиту» (см. [Калашников, 2003, с. 297; Расторгуев, 2003, с. 374; Васильев, 2013, с. 447-499]11). Поскольку же официально доминирующим остается вектор антисоветизма, то и реанимация такого вокатива маловероятна (см. также [Васильев, 2013, с. 500–542]).
Широко тиражируемый тезис «Россия - великая держава», до некоторой степени оправдываемый размерами территории страны (приобретенной, впрочем, усилиями далеких предков), обычно аргументируется тремя, казалось бы, бесспорными фактами: победа в Великой Отечественной войне, выход в космос, наличие ядерного арсенала. Однако все эти достижения совершены именно Советским Союзом, но вовсе не РФ, не способной даже на собственное производство гвоздей – об этом и подобном с удивлением иногда узнаю́ т российские высокие руководители12.
-
9 Пелевин В.О. Generation «П». М., 1999. С. 82.
-
10 URL: https://finance,rambler.ru.economics/52807224.23.05.24
-
11 Также: Пелевин В.О. Чапаев и Пустота. М., 2003. С. 53-54. Можно вспомнить, что в некоторых арго присутствует семантически удачное существительное подельник [Дубягин, Бронников, 1991, с. 135; Хукка, 1992, с. 138].
-
12 URL: https://ria.ru.14.04.22
СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2024. № 4 (29)
Приблизительно таким же образом в СМИ всячески восхваляют многих спортсменов российского происхождения, выступающих за иностранные команды и под чужим флагом, упорно называя этих гастролеров российскими атлетами.
По-видимому, вербально-манипулятивные операции, примеры которых здесь приведены, по крайней мере, отчасти связаны с фундаментальными положениями. Ряд элементов уважаемой государственной символики современной России характеризуется несомненной контаминацией – если учитывать, что, согласно ст. 1 главы 1 Конституции РФ, она «есть д е м о кр ат и ч е с ко е федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Так, изображенный на гербе двуглавый орел – очевидная репликация герба Российской империи; этой же империи ранее принадлежал сегодняшний флаг13; музыка гимна – это музыка гимна низвергнутого СССР, правда, с наложением совсем иного текста, однако написанного тем же талантливым и высокопринципиальным автором.
Время от времени будто бы спорадически14 возникают малорезультативные дискуссии и смелые предложения об узаконении некоей национальной идеи [Васильев, 2013, с. 150–154]. Например, П. Толстой, депутат фракции «Единая Россия», заявил: «…Вместо того, чтобы прописывать в Конституции запрет на идеологию, нужна надпартийная национальная15 идеология, которая обеспечит прорыв нашей страны в будущее»16. Ранее В. Путин говорил: «Советской власти удалось создать некую субстанцию, которая оказалась над межнациональными отношениями, но носила идеологический характер. Даже придумали общность людей – советский народ <…>. Мы говорим про российский народ17, но это пока не то <…>. Есть только одно, что может з а м е н и т ь то, что было в Советском Союзе. Это общероссийский патриотизм »18. Вероятно, для душевного равновесия государствообразующего народа был изобретен русский мир . Это, наверное, самый впечатляющий пример абсолютного отрыва словесного маркера от фантомного денотата [Васильев, 2024, с. 194-196].
В 2022 г. были утверждены Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей – вероятно, как адекватный субститут табуированной идеологии. Судя по многим выступлениям в СМИ, клише традиционные (духовно-нравственные) ценности стало привычным элементом речей руководителей разных рангов: то ли присягой на верность, то ли вербальным символом веры19. Проводятся многочисленные съезды, слеты, сборы, форумы, выставки, парады, смотры и т.п. действа, которые призваны верифицировать реальность мифогенов. Для этого же предназначена бодрая статистика, свидетельствующая о массовой поддержке новоиспеченных организаций.
Справедливо суждение: «Идеология <…> сказывается во всем. И ее нельзя уловить ни в чем» [Зиновьев, 1990, ч. 1, с. 226]. Сегодняшние российские вербальные имитации идеологии, включая почти ритуальные обязательные ламентации о «миллионах невинных жертв сталинских репрессий» и приснопамятных советских галошах20, характеризуются явной эклектичностью.
На основании анализа представленных выше номинаций допустимо заключить, что в современном российском официозном дискурсе активно используется особый манипулятивный прием. Его можно определить как с л о в е с н у ю м и м и кр и ю , то есть пропагандистское приспособление вербальных символов прошлого (прежде всего - советского) с наполнением их содержанием, соответствующим неким новым целям. Это – частная разновидность вербальной магии, с помощью которой выстраиваются необходимые дискурсивные декорации.
Список литературы Словесная мимикрия как разновидность вербальной магии
- Буслаев Ф.И. О влиянии христианства на славянский язык. М., 1848.
- Васильев А.Д. Вариативные выражения универсальных оппозиций: в 2 т. Красноярск, 2020.
- Васильев А.Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах СМИ. СПб., 2013.
- Васильев А.Д. Кавычки при клише как знак конвенциональной оценки // Сибирский филологический форум. 2023а. № 3 (24). С. 4-14.
- Васильев А.Д. Манипуляции словами: управление сознанием. Красноярск, 2024.
- Васильев А.Д. О вербальной коррекции картины мира // Сибирский филологический форум. 2023б. № 1 (22). С. 4-13.
- Васильев А.Д. Превращения слов. Современные лексико-семантические процессы. Красноярск, 2019.
- Васильев А.Д., Васильева С.П. Русский - российский? Вопрос идентификации и самоидентификации // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2020. № 1 (51). С. 152-160.
- Дубягин Ю.П., Бронников А.Г. (общ. ред.). Толковый словарь уголовных жаргонов. М., 1991.
- Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990.
- Зиновьев А.А. Зияющие высоты: в 2 т. М., 1990.
- Калашников М. Вперед, в СССР-2. М., 2003.
- Потебня А.А. Мысль и язык // Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976. С. 35-220.
- Расторгуев С.П. Философия информационной войны. М., 2003.
- Романенко А.П. Образ ритора в советской словесной культуре. М., 2003.
- Словарь русского языка: в 4 т. М., 1982. Т. 2 (МАС2).
- Толковый словарь современного русского языка. М., 2001 (ТССРЯ).
- Трубачев О.Н. Этимология и славянская пракультура // Методология и методика историко-словарных исследований, историческое изучение славянских языков, славянской письменности и культуры: всесоюзная конференция. Л., 1988. С. 9-10.
- Хукка В.С. Жаргон и аббревиатура татуировок преступного мира: словарь-справочник. Н. Новгород, 1992.