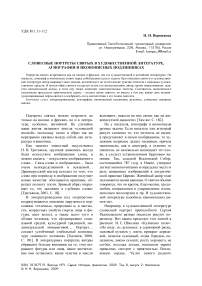Словесные портреты святых в художественной литературе, агиографии и иконописных подлинниках
Автор: Воронцова Надежда Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Портреты святых встречаются как на иконах и фресках, так и в художественной и житийной литературах. Но писатель, агиограф и иконописец ставят перед собой разные цели и задачи. При описании святого в художественной литературе автор выражает свои эмоции, воздействует на эстетические чувства читателя с помощью художественных средств. В житии образ святого создается путем его жизнеописания; автор, кроме повествования, задается назидательной целью, в этом ему также помогают многочисленные эпитеты. Составитель иконописного подлинника преследует практическую задачу - создать икону святого, но вместе с тем ему важно дать индивидуализированные черты святого и изобразить его в соответствии с его чином святости.
Литературоведение, агиография, иконописный подлинник, рукопись, словесные портреты святых
Короткий адрес: https://sciup.org/14737044
IDR: 14737044 | УДК: 811.11-112
Текст научной статьи Словесные портреты святых в художественной литературе, агиографии и иконописных подлинниках
Портреты святых можно встретить не только на иконах и фресках, но и в литературе, особенно, житийной. Не случайно жанр жития называют иногда «словесной иконой», поскольку слово и образ так же неразрывно связаны между собой, как литература и живопись.
Как заметил известный искусствовед Н. Н. Третьяков, «русская живопись всегда была искусством изображения слова, и можно сказать, – искусством изображенного слова… Связь слова и изображения… была очень непосредственной и осязаемой… Древнерусский мастер исходил из того, что слово при переводе в изображение получает новые качества: обогащается красками, обретает полноту плоти. Зримый образ открывает то, что заложено в глубинах слова» [Третьяков, 2001. С. 18].
В литературоведении под «портретом» подразумевается описание наружности персонажа: «телесных, природных и, в частности, возрастных свойств (черты лица и фигуры, цвет волос), а также всего того в облике человека, что сформировано социальной средой, культурной традицией, индивидуальной инициативой… Портрет… создает устойчивый стабильный комплекс черт «внешнего человека» [Хализев, 2000. С. 181]. В литературных портретах авторы обращают больше внимание на то, «что выражают фигуры или лица, какое впечатление они оставляют, какие чувства и мысли вызывают, нежели на них самих как на живописуемой данности» [Там же. С. 182].
Но у писателя, агиографа и иконописца разные задачи. Если писатель или агиограф рисует словесно то, что читатель не видит, а представляет в своем воображении, то художник незримое делает видимым, причем иконописец, как и агиограф, в отличие от писателя, не своевольно воплощает это слово, а следует установленным Церковью канонам. Так, седьмой Вселенский Собор, состоявшийся 787 году в Никее, утвердил догмат иконопочитания и определил место и роль священных изображений в литургической практике Церкви. Житийный жанр тоже подчиняется своим канонам. О святом обычно говорится, что он кроток, благочестив, трудолюбив, непреклонен в умерщвлении плоти, исполнен милосердия и пр. В художественной литературе подобных канонических рамок нет.
Например, в художественной литературе словесный портрет преподобного Сергия Радонежского разные писатели рисуют по-разному. Вот каким предстает этот святой в рассказе И. С. Шмелева «Куликово поле»: «По виду, из духовных: в сермяжной ряске, лыковый кузовок у локтя, прикрыт дерюжкой, шлычок суконный, седая бородка, ок-ладиком, ликом суховат, росту хорошего, не согбен, походка легкая, посошком меряет привычно, смотрит с приятностью. Возликовало сердце, “будто самого родного
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 2: Филология © Н. Н. Воронцова, 2009
встретил”… “Такой лик, священный... как на иконе пишется, в себе сокрытый”. Может быть, что и таил в себе, чувствовалось мне так: удивительно сдержанный, редкой скромности, тонкой задушевной обходительности, – такие встречаются в народе» [Шмелев, 2007. С. 79]. Б. Зайцев в повести «Преподобный Сергий Радонежский» описывает этого святого по-другому в соответствии со своей авторской манерой: «Если б его увидеть… – писал о святом Борис Зайцев. – Думается, он ничем бы сразу не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе – через всю ее условность – образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России. Все – возведенное к предельной легкости, чистоте» [Зайцев, 1990. С. 492]. Словесные портреты, данные прп. Сергию Шмелевым и Зайцевым, позволяют нам представить облик этого святого.
В житии же его портрет не дан; из него известно только, что «не любил он мягких и красивых одежд, но постоянно носил одеяние из грубой ткани, собственноручно им самим сшитое» [Жития: Сентябрь, 2005. С. 532]. Многие даже не признавали в нем известного игумена: «Поселянин некий… слышав многая о святом Сергии, восхоте видети его, и пришед во обитель преподоб-наго, вопрошаше о нем где есть; случися же тогда преподобному в вертограде копати землю, и поведано бысть о сем человеку тому: шед же поселянин в вертоград, виде святаго в худей одежде, раздранней и мно-гошвенней, землю копающа и мняше, яко поругашася ему поведавшии» [Жития: Сентябрь – ноябрь, 2007. С. 215]. Портрет святого в житии не дан, но мы можем представить себе из данного текста, что святой являл собой образец смирения и нестяжа-тельности. Перед нами – обобщенный образ, для которого не важны внешние данные.
Портреты святых можно встретить и в поэтических произведениях. Так, С. С. Бех-теев в стихотворении 1933 г. «Угодник» рисует словесно преподобного Серафима Саровского:
Старец Божий, старец кроткий,
В лаптях, с палкою простой,
На руке иссохшей четки, Взор, горящий добротой.
Сколько дивного смиренья
В страстотерпческих чертах, Дивный дар богомоленья Лег улыбкой на устах…
[Бехтеев, 2002. С. 43–44]
Как видим, в художественной литературе при описании святого на первый план выступает субъективная эмоциональность автора, которая передается с помощью художественных средств, прежде всего, эпитета - походка легкая, негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, дивное смиренье, и метафоры - взор, горящий добротой , дар богомоленья лег улыбкой на устах и др. Кстати, нельзя не заметить в стихотворении Бехтеева сходства предложенного изображения с иконой преподобного Серафима.
В житии прп. Серафима, как и в житии прп. Сергия, не приводится описания лика святого, но неоднократно говорится об одеянии: «Одежду преподобный Серафим носил всегда одну и ту же, простую, даже убогую: на голове поношенную камилавку, на плечах полукафтанье как бы в виде балахона из белого полотна, на руках кожаные рукавицы, на ногах кожаные чулки и лапти; на балахоне его висел неизменно тот самый крест, которым благословила его некогда мать…» [Жития: Январь, 2005. С. 69]. И далее: «Умилительно было видеть этого смиренного, согбенного старца, подпиравшегося мотыкою или топором, в пустыне, за рубкою дров или за возделыванием гряд, в убогой камилавке без крепа, в холщевом белом балахоне с сумою на плечах, где лежало Евангелие и груз из камней и песка для умерщвления своей плоти» [Там же. С. 89]. Простота, кротость, нестяжание, целомудрие, послушание – все это отражается в образах и преподобного Серафима, и преподобного Сергия, т. е. нравственная характеристика проявляется в их внешнем облике.
В житиях портрет святого является одним из средств создания его образа. Как уже было замечено, не в каждом житии приводится описание внешности святого, так как в агиографической литературе образ святого создается, прежде всего, путем его жизнеописания. Когда в житии приводится портрет подвижника, то он может быть как обобщающим, типичным, так и индивидуализированным. Например, св. благоверный князь Феодор Ярославский «бе же возрастом велик зело, красота же лица его бе видети яко Иосифа Прекраснаго, бяше же попремногу милостив» [Жития, 2002. С. 15–16]; прп. Ев-фросиния Полоцкая «бяше бо лепа лицем, красота же ея многыя славныя князи, любовь приведе к отцу ея» [Там же. С. 154]; прмц. Евдокия «презельною своею красотою прельщающи многия, аки сетию улови… Толикая же бяше лица ея лепота, яко ни иконописцу мощно бе тоя подобие изо-бразити» [Жития, 2007. С. 35]; прп. Анин чудотворец «…мал телом яко древний За-кхей, но велик бысть сосуд Святаго Духа, от юности кроток и молчалив нравом бяше… Ангельский на ся прия образ» [Там же. С. 213]; прмч. Никон Сицилийский «бе муж, именем Никон, в воинстем чине красен добротою, лицем светел, и храбр в бранех» [Там же. С. 242]; св. мученица Фервуда «бе… юна леты, и лицем красна без меры» [Там же. С. 397]; св. мч. Агафопод «бе… леты стар, целомудрием и сединами украшен» [Там же. С. 400]; св. мч. Феодул «бе…млад и красен лицем, юношеских лет сый» [Там же].
Во всех вышеприведенных примерах даны типизированные портреты: «лепа ли-цем», «лицем светел», «красен лицеем», «в воинстем чине красен», «юна леты», «юношеских лет сый», «возрастом велик зело», «леты стар», «телом крепок и мужествен», «целомудрием украшен» и пр.
Примеры индивидуализированного портрета также можно встретить в житийной литературе. Преподобный Алексий человек Божий описан так: «Лице свое преклонено имеяше, ум же его бе горе в богомышлении упражняйся, и толико изсушися плоть его от многаго воздержания, яко увяде красота лица его, зрение помрачися, очи воглубишася, и токмо кожа его и кости зряхуся» [Там же. С. 205]; а прп. Василий Новый «по пустыни ходяща, худыми одеяна рубы, образом странна и страшна, яко в пустыни воспитана» [Там же. С. 280]. Преподобная Мария Египетская была «нага телом, и черна от солнечнаго опаления, власы имуща на главе белы аки волну, и кратки яко точию до выи досязающыя» [Там же. С. 364]; а прп. Феодор Трихин «истни плоть свою, яко лицем мертвому бе подобен… главу никогдаже имея покровенну, едину токмо носяше одежду остру власяну, и того ради власяный наречен бысть» [Там же. С. 514].
Как видим, часто индивидуализация образа возможна за счет описания одеяния святого или описания волос (см. вышеприведенные примеры из житий преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского).
Словесный портрет святого можно встретить не только в художественной и агиографической литературе, но и в иконописном подлиннике. Вот, например, как там описаны святые:
-
«1 мая. Святаго пророка Еремея. Сед, брада Иоанна Богослова, власы со ушеи, риза вохра с белилы, испод лазор, в свитце глаголет: Господи силам суд праведно» 1;
-
«24 мая. Преподобнаго отца нашего Симеона Столпника таковеж, якоже в начале сентября, столпы багор с белилы, другая половина киноварь с белилы. Тои же день преподобнаго отца нашего Никиты Переславского чюдотворца над сед брада доле Симеоновы, около главы власкы легонькы, столп празелень, другая половина празелень с вохрою бела» 2;
-
«31 мая. Святаго мч. Ермия, рус акы Флор, риз киноварь, испод празелень, препоясан ширинкою, в правой руце крест, а в левой меч в ножнах» 3.
В иконописном подлиннике портрет святого создается путем подробного описания его внешности, одеяния, положения рук. Автору важно подчеркнуть индивидуальные черты каждого святого, хотя типизация присутствует и здесь, но она соответствует чину святости. Так, святые мученики изображаются на иконах с крестом в руках, при написании одеяния активно используется красный цвет, как символ пролитой крови за Христа. Святые преподобные изображаются в монашеском облачении; правая рука – в благословляющем перстосложении; в левой руке может быть развернутый или свернутый свиток. Характерная деталь иконографии преподобных – четки – символ монашеского молитвенного подвига. Стоящими на столбах изображаются святые преподобные столпники, избравшие для себя этот вид духовной аскезы. Святые блаженные на иконах предстают в том виде, в каком они совершали подвиг, - обнаженными или с повязкой на чреслах, в ветхих одеждах, с веригами на плечах. Интересна в этом смысле иконография св. блаж. Матроны Московской. Известно, что святая была слепорожденной, и на иконах она может быть изображена как слепой, в соответствии с реальным обликом в жизни, и зрячей - с отверстыми глазами, т. е. в соответствии с тем обликом, в котором она предстоит пред Престолом Божиим. Открытые глаза символизируют в данном случае очи духовные.
Итак, мы видим различия в описаниях внешности святых в художественной литературе, иконографии, иконописных подлинниках.
При описании святого в художественной литературе автор выражает свои эмоции, ставит нравственно-психологические проблемы, воздействуя на эстетические чувства читателя с помощью художественных средств. В художественной литературе портрет часто индивидуализируется, хотя тоже имеет много общего с житийным портретом. В житии образ святого создается путем его жизнеописания, и поэтому там предстает нравственнопсихологический портрет. Портрет святого предстает в житии общим, типизированным: красивый, мужественный, высокого роста (маленького) и др. В агиографической литературе автор, кроме повествования, задается назидательной целью, воздействием на душу читателя; в этом ему также помогают многочисленные эпитеты. Составитель иконописного подлинника ставит перед собой прежде всего практическую цель – создать икону святого, донести до иконописца элементы технической стороны (какими изобразить лик святого, его позу, какими красками воспользоваться для написания одежды и т. д.), но вместе с тем ему важно дать индивидуализированные черты святого и изобразить его в соответствии с его чином святости. Задача самая сложная – соединить телесное и духовное, земное и небесное.
VERBAL PORTRAITS OF SAINTS IN FICTION, HAGIOGRAPHY AND GUIDELINES FOR ICON PAINTERS