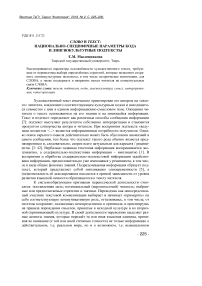Слово и текст: национально-специфичные параметры кода и лингвокультурные подтексты
Автор: Масленикова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются параметры осложнённости художественного текста, требующие от переводчика выбора определённых стратегий, которые позволяют сохранить лингвокультурные подтексты, в том числе исторические коннотации, для СЛОВА, а также поддержать и направить выход читателя на концептуальные связи СЛОВА.
Текст, подтекст, коды, лингвокультура, смысл, интерпретация, категоризация
Короткий адрес: https://sciup.org/146281250
IDR: 146281250 | УДК: 811.111''23
Текст научной статьи Слово и текст: национально-специфичные параметры кода и лингвокультурные подтексты
Художественный текст изначально ориентирован его автором на «своего» читателя, владеющего соответствующим культурным кодом и находящегося совместно с ним в едином информационно-смысловом поле. Ожидания читателя о тексте основываются на его знании и на имеющейся информации. Текст и подтекст определяют как различные способы сообщения информации [7]: подтекст выступает результатом собственно интерпретации и становится продуктом сотворчества автора и читателя. При восприятии подтекста «ведущим моментом <...> являются информативные потребности получателя. Однако поиск скрытого смысла действительно может быть обусловлен аномалией в самом сообщении, тем более что подтекст такого рода обычно является преднамеренным и, следовательно, скорее всего актуальным для адресата / реципиента» [3: 42]. Вербально заданная текстовая информация воспринимается эксплицитно, а содержательно-подтекстовая информация - имплицитно [1]. В восприятии и обработке содержательно-подтекстовой информации задействована информация, предположительно уже имеющаяся у реципиента, в том числе в виде общих фоновых знаний. Подразумеваемая информация образует подтекст, который представляет собой импликацию одновременности [5], а (не)возможность её декодирования находится в прямой зависимости от уровня развития языковой личности обратившегося к тексту читателя.
К системообразующим признакам переводческой деятельности относятся: поставленная цель; потенциальный (вероятностный) читатель; выбранные или предпочитаемые стратегии и тактики. Переводчик как непосредственный участник текстовой коммуникации выбирает и начинает «примерять» на себя соответствующую коммуникативную роль, отталкиваясь, в том числе, от системы координат, заложенных непосредственно в оригинале, и ориентируясь на правила порождения смыслов, принятые в исходной культуре и во вторичной (принимающей) культуре. В своей деятельности переводчик выделяет разные аспекты знания, которые передаёт та или иная языковая единица, принимая во внимание (с той или иной степенью точности) не только информацию о действительном, т.е. реальном мире, но и о возможном, т.е. вымышленном мире, созданным автором текста. Если оперативное знание подразумевает знание процедур оперирования фактами, то декларативное знание как знание фактов позволяет интерпретировать события из Мира текста относительно реального мира действительности.
В этой связи особую сложность представляет восстановление переводчиком ценностей и категорий, составляющих своеобразный «менталитет» эпохи написания текста автором. По причине отсутствия в общественном сознании представителей принимающей русскоязычной культуры схожих социальных дифференцирующих признаков, характерных для английского социума, перевод детективного романа «Trusted Like the Fox» (1948) Дж.Х. Чейза / James Hadley Chase (1906–1985) не передаёт негодование молодого одарённого человека, которого подтолкнула примкнуть к британским фашистам острая неприязнь к существующему порядку ( brains and ability didn’t count ), когда предпочтение оказывается только людям определённого социального круга. На элитарную принадлежность человека указывают полученное им образование в привилегированной частной средней школе ( be a public school type ; what’s your school ), происхождение ( who’s your father ) и внешний вид ( look presentable ; look at your suit ), по которым отличают «своих» от «чужих». В переводе появляются серьёзное образование и надёжные рекомендации . Герой сетует, что полученное на вечерних курсах образование не помогает устроиться в жизни ( Never mind how hard you worked at night school to improve yourself ), а в переводе утверждается, что вечерних курсов достаточно , т.е. национальноспецифические параметры социального кода, актуализируемые подтекстом, оказались непрочитанными и, как следствие, не воспроизведёнными.
You had to be a public school type or at least look presentable before you could earn more than ten pounds a week. Brains and ability didn’t count. Never mind how hard you worked at night school to improve yourself. It was who’s your father? What’s your school? Let’s look at your suit . D.H. Chase. Trusted like the Fox ↔ Невозможно заработать больше десяти фунтов в месяц, если нет серьёзного образования и надёжных рекомендаций. Интеллект ничего не значит, достаточно вечерних курсов . Д.Х. Чейз. Лиса в капкане (Перевод В. Брюгген).
Различия в когнитивных областях автора и переводчика, выступающего в функции первичного читателя оригинала и квази(со)автора текста для вторичного читателя из системы переводящего языка, обусловливают степень (не)понимания и проявления коммуникативных (не)удач. Возможность актуализировать подтекст зависит как от локального непонимания, так и от внешнего непонимания (по типологии непонимания из [6]). Локальное непонимание вызвано непониманием слов, непониманием или незнанием идиолекта автора текста, несоотнесением фрагмента текста с реалией, незнанием культуры, несовпадением эстетических и этических взглядов. Внешнее непонимание, связанное с энциклопедическим, культурно-историческим и биографическим контекстами, приводит к непониманию коммуникативного задания текста. Восприятие подтекста и затекста наряду с получением нового знания опирается на опыт усмотрения и переживания смыслов. Интерпретация событий из Мира текста предполагает наличие у читателя умения скоординировать их относительно реальной действительности. События из романа «Trusted Like the Fox» Дж.Х. Чейза относятся к послевоенной эпохе, когда женская мода предписы-- 226 - вала пудрить лицо и наносить яркую губную помаду. В одном из эпизодов романа его героиня пытается добавить себе привлекательности с помощью косметики. В оригинале она держит в руках пуховку (the huge puff), традиционно изготовляемую из лебяжьего пуха (the yellow ball of swan’s), но в переводе пуховка превращается в жёлтое полотенце:
... she could not resist pausing to powder herself with the huge puff on the dressingtable. Naked, the yellow ball of swan’s down in her hand, she looked at herself in the fulllength mirror . J.H. Chase. Trusted like the fox ↔ ... не могла не задержаться у зеркала. Нагая, с переброшенным через плечо жёлтым полотенцем <...> Даже критический взгляд признал бы, что у неё красивое тело . Дж.Х. Чейз. Хитрый, как лиса (Перевод Р. Мирсалиевой).
Расшифровка лингвокультурного подтекста требует от читателя высокой художественной рецепции и эрудиции, когда между структурами знаний находятся, определяются и выстраиваются необходимые для анализа контекста связи (дополнительные, обстоятельственные, определительные, координационные и т.д.), позволяющие установить значимые элементы в структуре ассоциативных полей СЛОВА. То, насколько точным будет вторичное ментальноязыковое (ре)конструирование Мира текста, реализуемое в виде письменно зафиксированной индивидуально-личностной переводческой проекции исходного текста, зависит от ряда факторов, среди которых: 1) предметнопризнаковое устройство реального мира действительности, относящиеся в сфере принимающей текст перевода культуре; 2) эмоционально-оценочная актуализация, направляющая процессы классификации и категоризации. Английское существительное skull-cap служит для обозначения разных видов головных уборов – ермолки , тюбетейки или скуфьи , при этом допустимо передавать реалию тюбетейка как tyubeteyka . Снятие неоднозначности зависит от (не)соответствия контексту и контекстуальной информации, поэтому в переводах произведений английских писателей на русский язык обычно ермолка становится атрибутом стариков, что имело место в переводах романах Ч. Диккенса / Ch. Dickens (1812–1870) «The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit» / «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита» (Н. Дарузес, 1950) и «Bleak House» / «Холодный дом» (М. Клягина-Кондратьева, 1853). Чтобы избежать каких-либо связей со скуфьёй ‘головной убор православного духовенства’, в переводах романа Н. Готорна / N. Hawthorne (1804–1864) «The Scarlet Letter» / «Алая буква» (1850) священник получает круглую чёрную шапочку (Э. Линец-кая и Н. Емельянникова, 1957). Только в одном переводе романа М.А. Булгакова (1891–1940) «Мастер и Маргарита» (1929–1940) для конферансье в тюбетейке содержится указание на вид и происхождение головного убора как embroidered Asian skullcap (H. Aplin, 2008), т.е. как ‘вышитая азиатская шапочка’. Остальные переводчики романа на английский язык оставляют embroidered skullcap (M. Ginsburg, 1967; D. Burgin and K. Tiernan O’Connor, 1995) или skullcap (R. Peaver and L. Volokhonsky, 1997; M. Karpelson, 2011).
В художественном тексте СЛОВО может стать своего рода средством кодирования национально-специфических ценностей, участвуя при этом в конфигурировании текстового содержания в целом. Изменение условий, в которых протекает текстовая коммуникация, способно привести к изменению отдельных параметров подтекста, когда со временем они становятся «потерянными» для читателя, отделённого от читателя-современника автора пространственно-временным барьером, по причине чего он оказывается неспособным к экспликации имплицитной информации, содержащейся в тексте и заложенной в него автором. В русском языке использованное в единственном числе существительное коса могло обозначать незамужнюю девушку, особенно в выражениях типа красная краса, русая коса [2]. Когда няня Татьяны из романа в стихах «Евгений Онегин» (1823–1831, полностью – 1833) А.С. Пушкина (1799– 1837) вспоминает о собственной свадьбе, то она описывает связанные с церемонией обряды: коса указывала на девичье состояние, а под плачем (с плачем косу расплели) имеются в виду жалобные песни, с которыми на девичниках перед свадьбой девушка прощалась с прежней жизнью, символом чего являлась расплетаемая подружками коса. Аналогичным образом количество кос (Месяц под косой блестит) у царевны из пушкинской «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831, опубликована – 1832) является важным в контексте эпизода, когда князь Гвидон рассказывает о мечте жениться на ней.
Первый переводчик романа «Евгений Онегин» / «Eugene Onéguine» (1881) на английский язык Г. Сполдинг / Henry Joseph Spalding (1840–1907) вынес в отдельную сноску комментарий относительно связи количества кос на голове жительницы России с её семейным статусом («In Russia unmarried girls wear their hair in a single long plait or tail, “kossa;” the married women, on the other hand, in two, which are twisted into the head-gear»). В свой комментарий он вводит транскрипционный способ передачи реалии коса как kossa , но сам перевод говорит о длинных распущенных волосах ( tresses ‘распущенные волосы’): Weeping they loosed my tresses long / And led me off to church with song .
Женой британского дипломата Ч. Джонстона / Charles Hepburn Johnston (1912–1986) стала княжна Н.К. Багратион-Мухранская (1914–1984), приходившаяся внучкой Великому князю, поэту, переводчику и драматургу К.К. Романову (1858–1915), публиковавшемуся под псевдонимом К.Р . Возможно, именно благодаря этому факту своей биографии Ч. Джонстон оказался более точным в передаче особенностей свадебного обряда, совершаемого по канонам православной церкви ( Then, crying, they untwined my plait, / and sang me to the altar-mat ). Он даже упоминает о расстеленном около аналоя подножнике ( the altar-mat ), на который время венчания одновременно встают жених и невеста.
Родившийся в Минске в 1901 году и переехавший в Англию вместе с семьёй Лев Зеликов говорит именно о косах царевны из пушкинской «Сказки о царе Салтане» как braids ‘косы’ (L. Zellikoff, 1968). Эмигрировавший в США после революции 1917 года юрист, писатель и общественный деятель Б.Л. Бра-золь / Boris Brasol (1885–1963) участвовал в создании «Общества русской культуры им. А.С. Пушкина» / «The Pushkin Society» и возглавлял его в течение 27 лет (1937–1963), но, будучи страстным пропагандистом творчества поэта, он не воспроизводит лингвокультурный подтекст, связанный с количеством кос , предпочитая использовать существительное hair ‘волосы’ как нейтральное обобщение (B. Brasol, 1936; J. Reeves, 1969; W. Arndt, 1984). Другие переводчики выбрали tresses ‘распущенные волосы’ (Oliver Elton, 1935) и поэтизм locks ‘волосы’ (J. Lowenfeld, 2009).
Наличие или отсутствие платка на голове говорило об образе жизни женщины: простоволоска – это женщина ‘незамужняя, и вольного поведения’ [2]. Отсутствие подобной или схожей статусной символики платка ( Полосатой фатой закрывается <...> Шёлковой фатой я закрылася ) как традиционного женского головного убора затрудняет прочитывание вербального и невербального знака костюмного кода [4], за которым скрывается суть конфликта, повлёкшего за собой трагические события в поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) М.Ю. Лермонтова (1814–1841). Ч. Тёрнер / Charles Edward Turner (1831–1903) занимал должность профессора английской литературы в Александровском Императорском Лицее, а с 1864 года до конца жизни читал лекции по английский литературе в санкт-петербургском университете. Анализируя в своей книге «Studies in Russian literature» (1882) творчество М.Ю. Лермонтова, он перемежает переведённые в стихотворной форме отрывки из «Ballad of Ivan Vasielivitch, the Tsar, his young Trooper, and the bold merchant Kalaschnikoff» прозаическими вставками, но не объясняет взаимосвязь появления на улице женщины с непокрытой головой и её стыда перед соседями ( И кому на глаза покажусь теперь? ). Он просто пишет о её непокрытой голове ( bareheaded, her braided tresses of golden hair bespangled ). Первый полный перевод поэмы «The song of the merchant Kaláshnikov» был выполнен Э.Л. Войнич / Ethel Lillian Voynich (1864–1960) и вошёл в книгу «Six lyrics from the Ruthenian of Tarás Shevchénko, also The song of the merchant Kaláshnikov from the Russian of Mikhaíl Lérmontov» (1911). К её переводу даны три комментария: один о значении слова «опричники», второй касается личности Малюты Скуратова, а третий объясняет суть ситуации, когда купец, увидев простоволосую жену ( Перед ним стоит молода жена, / Сама бледная, простоволосая, / Косы русые расплетённые ), решает мстить за своё имя честное . Указывается, что женщина с непокрытой головой считалась непорядочной (Uncovered and untied hair was the sign of a disreputable woman). Другой перевод был выполнен И.Г. Коршуном (1881–1966), который публиковался под псевдонимом John Cournos. Его семья уехала из Киева в США (1891), а сам он позднее переехал в Англию (1912). Э.Л. Войнич и Дж. Курнос варьируют несколько синонимов для русых кос : tresses ‘распущенные волосы’ и locks ‘волосы’ (E.L. Voynich), plaits ‘косы’ и braids ‘косы’ (J. Cournos). Прилагательное unkempt ( Thy hair unkempt ) из его «мужского» перевода ( Что растрёпаны твои волосы? ) не совсем точно связано с ситуацией, так как оно имеет значения ‘нечёсаный, растрёпанный, косматый’ и ‘неопрятный, неряшливый’.
Формальная эквивалентность подразумевает подстановку и замену элементов одного языка элементами другого языка. Основанием для достижения прагматической эквивалентности является применение принципа компенсации. Перевод признаётся успешным при условии соответствия используемых средств и способов (переводческие трансформации, преобразования, компенсирующие расхождения и стратегии и т.д.) поставленным коммуникативным целям и задачам. На коммуникативные (не)удачи двуязычной текстовой коммуникации влияют близость коммуникантов во времени и (не)совпадение их систем знаний. От переводчика требуется соотнести имеющийся личный опыт не только с текущей (реальной) ситуацией, но и с представленной в оригинале ситуацией.
Если собственно подтекст, который читатель ощущает и пытается раскрыть, подготавливается автором сознательно или неосознанно, то лингвокультурный подтекст представляет собой более сложное явление, так как он объединяет лингвистические и экстралингвистические, культурные и социальные факторы. Перевод предполагает не только передачу «сухой» структуры оригинала, но и восстановление имеющегося текстового Мира таким образом, чтобы читатель из системы переводящего языка получил возможность построить текстовую проекцию, исходя из принципа «что - есть - текст - для - меня».
WORD AND TEXT :
Список литературы Слово и текст: национально-специфичные параметры кода и лингвокультурные подтексты
- Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981. 138 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. СПб.: ТОО «Диамант», 1996.
- Долинин К.А. Имплицитное содержание высказывания//Вопросы языкознания. 1983. № 6. С. 37-47.
- Ковшова М.Л. Семантика головного убора в культуре и языке. Костюмный код культуры. М.: Гнозис, 2015. 368 с.
- Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М.: Просвещение, 1988. 112 с.
- Левин Ю.Д. О типологии непонимания текста//Левин Ю.Д. Избранные труды. М.: Яз. русской культуры, 1998. С. 581-591.
- Маслова В.А. Психолингвистические аспекты восприятия подтекста//Текст в речевой деятельности (перевод и лингвистический анализ). М.: ИЯ АН СССР, 1988. С. 78-82.