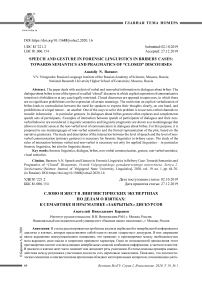Слово и жест в лингвистических экспертизах по делам о взятках: к семантике и прагматике "закрытых" дискурсов
Автор: Баранов Анатолий Николаевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы анализа вербальной и невербальной информации в диалогах о взятках, которые представляют собой один из видов «закрытых» дискурсов. В них запрещено явное выражение коммуникативного намерения, что приводит к противоречию между необходимостью ясно выражать свои мысли и запретами правового характера. Одна из возможностей преодоления этого противоречия состоит в использовании невербальных каналов сообщения информации, в частности жестов. В диалогах о взятках жест часто заменяет или дополняет речь участников. В статье описаны примеры взаимодействия между репликами участников диалогов и их неречевым поведением. Показано, что лингвистическая семантика и лингвистическая прагматика обладают категориальным аппаратом, позволяющим достоверно описывать невербальный слой коммуникации в диалогах о взятках. Предложено использовать метаязыки невербальной семиотики и формального представления сюжета, основанные на грамматиках нарратива. Исследование и описание взаимодействия между вербальным и невербальным уровнями коммуникации (прежде всего жестами), выявление закономерностей такого взаимодействия необходимы не только для прикладной лингвистики, в частности для проведения судебной лингвистической экспертизы, но и для лингвистической теории.
Лингвистическая экспертиза, диалог, взятка, невербальная коммуникация, жест, невербальная семиотика, визуальная семиотика
Короткий адрес: https://sciup.org/149131543
IDR: 149131543 | УДК: 81’221.2 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.1.6
Текст научной статьи Слово и жест в лингвистических экспертизах по делам о взятках: к семантике и прагматике "закрытых" дискурсов
DOI:
Цитирование. Баранов А. Н. Слово и жест в лингвистических экспертизах по делам о взятках: к семантике и прагматике «закрытых» дискурсов // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 64–76. – DOI:
Дискурс – открытый и закрытый
Дискурс в самом широком понимании задается совокупностью дискурсивных практик, идентифицирующих его участников и представляющих тематику коммуникации, характерную для этого дискурса. Под дискурсивной практикой понимается устойчивое воспроизведение близких по функции, альтернативных языковых средств выражения определенного смысла. Тенденции применения дискурсивных практик находят отражение в частоте употребления соответствующих феноменов фонетического, морфологического, синтаксического, семантического и даже сюжетного уровней [Баранов, 2012, с. 245–246]. К дискурсивным практикам часто относятся и элементы устного речевого и визуального оформления текста.
Использование формально или неформально установленных дискурсивных практик превращает простой обмен текстами (репликами) в часть соответствующего дискурса. Иными словами, дискурсивные практики институционализируют дискурс как таковой, делают его существующим формально и – что часто более существенно – неформально. Игнорирование дискурсивных практик приводит как минимум к коммуникативным неудачам. Так, в дискурсе языка математики в качестве дискурсивной практики лексического уровня бытует термин доказательство теоремы . Использование близких по семантике форм ( аргументация теоремы , демонстрация теоремы , верификация теоремы , приведение исчерпывающих логически непротиворечивых аргументов в пользу тезиса ) вряд ли будет признано участниками данного дискурса правомерным из-за уже существующей дискурсивной практики.
К дискурсивным практикам макроструктурного уровня относится, например, необходимость упоминания классиков марксизма-ленинизма в научных работах 40–50 гг. XX в. в СССР. Ср. характерную цитату из известной статьи А.С. Чикобавы «О некоторых вопросах советского языкознания» (1950), опубликованной в газете «Правда»:
-
(1) В самом деле, раз все развитие человеческого общества обусловлено развитием производственных отношений, и язык, это – «важнейшее средство общения» ( Ленин ), «орудие борьбы и развития» ( Сталин ), естественно, должен быть обусловлен в своем развитии теми же отношениями.
Указания на то, что язык является «важнейшим средством общения» и «орудием борьбы и развития» как минимум малоинформативны – это трюизмы, использованные в качестве дискурсивной практики, придающей дискурсу признаки научности (разумеется, научности в понимании той эпохи). Данная дискурсивная практика одновременно служит маркером, отделяющим своих (приверженцев марксизма-ленинизма) от чужих (буржуазных ученых).
Дискурсы весьма разнообразны по тематике, целевым и ценностным ориентациям, участникам и т. д. С точки зрения задач настоящей статьи, которые формулируются ниже в этом разделе, весьма существенно разграничение дискурсов открытых и закрытых. Назовем «открытым дискурсом» такой обмен репликами, в котором иллокутивные вынуждения реплик 1 успешно реализуются, участники последовательно соблюдают максимы Грайса, или постулаты речевого общения, стремясь представить свои коммуникативные намерения и пропозициональное со- держание реплик ясно и непротиворечиво. Назовем «закрытым дискурсом» такой обмен репликами, в котором по экстралинг-вистическим основаниям налагаются ограничения на выражение коммуникативного намерения и/или на пропозициональное содержание. К закрытым дискурсам относятся, например, дискурс загадок, в котором запрещается прямое упоминание денотата загадки (того, что требуется отгадать), хотя какие-то существенные свойства этого денотата указываются или задаются по аналогии с помощью метафор, метонимии, аллитераций и пр. [Левин, 1978; Журинский, 1989]; экзаменационный дискурс, предполагающий наличие текстов заданий, решения которых должен предложить экзаменуемый; дискурс о смерти, в котором табуировано само упоминание объекта обсуждения; некоторые типы религиозного дискурса, в которых налагаются жесткие ограничения на прямое упоминание ряда феноменов и обсуждение религиозных постулатов, и многие другие типы (дискурс сексуальных отношений, судебный дискурс и т. д.). Классификация закрытых дискурсов еще ждет вдумчивого исследователя.
Некоторые из закрытых дискурсов ограничены институционально , то есть соответствующие запреты сформулированы в виде законов, а их нарушение влечет существенные санкции. К таким дискурсам относятся дискурсы угрозы, взятки, вымогательства; дискурс доведения до самоубийства, обсуждение противоправной деятельности (например, производство, пропаганда и сбыт наркотических веществ), экстремистский дискурс, а также вообще любое речевое сопровождение подготовки и реализации преступлений.
Понятно, что стратегии речевого поведения участников в открытом и закрытом дискурсах будут существенно различаться, поскольку в последнем случае потребуется корректировка выражения смысла для учета соответствующих ограничений.
В данной статье, написанной по материалам доклада, прочитанного автором на конференции по лингвистической экспертизе в Институте русского языка им. А.С. Пушкина «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы» (1–2 октября 2019 г.), рассматривается один из закры- тых дискурсов – дискурс взятки – с точки зрения возможностей лингвистического анализа этого феномена.
Дискурс о взятках – вербальное и невербальное
Поскольку дискурс о взятках институционально ограничен, то участники коммуникации в этом случае оказываются в противоречивой ситуации: с одной стороны, говорящий должен понятным образом донести до адресата свое коммуникативное намерение, что предполагает следование постулату Способа («Выражайся ясно») [Грайс, 1985, с. 223], а с другой – не попасть под санкции, которые влечет соответствующая статья. Понятно, что одно противоречит другому: маскируя намерение дать взятку, дающий взятку рискует быть непонятым. Vice versa при вымогательстве взятки вымогающий также может недостаточно ясно дать понять собеседнику, что он имеет в виду. Один из способов решения этой проблемы состоит в использовании различных каналов передачи информации. Как известно, в диалоге используется не только вербальный канал общения, но невербальный. По нему может предаваться та информация, которая запрещена институционально при вербальном выражении, но кажется участникам плохо распознаваемой посторонними при невербальной передаче.
Отметим, что опора на невербальный канал или на комбинацию вербального и невербального каналов совсем не бессмысленна, поскольку невербальная часть коммуникации не является традиционным объектом лингвистики, что создает проблемы при лингвистическом анализе и, соответственно, в лингвистической экспертизе. Тем не менее какую-то часть содержания, передаваемого по невербальному каналу (часто весьма существенную), можно представить на семантическом языке и тем самым проанализировать ее вполне традиционными средствами лингвистической семантики. Расширение сферы компетенции лингвистов в связи с исследованием невербальной части коммуникации допустимо, правда, только применительно к семиотической составляющей соответствующих феноменов, то есть к знакам [Баранов, 2018].
В этом случае лингвист выступает как специалист по семиотике. Такое расширение вполне правомерно, хотя и предполагает некоторую экспансию сферы лингвистического знания: действительно, не все семиотические системы являются естественными языками. Из невербальных знаков чаще всего объектом исследования становятся конвенциональные жесты, то есть жесты с определенной семантикой. Некоторые из них подробно описаны в «Словаре языка русских жестов» [Григорьева, Григорьев, Крейдлин, 2001].
При взаимодействии вербального и невербального каналов коммуникации реализуются два основных логически возможных варианта:
-
(i) вербальный и невербальный каналы не связаны друг с другом;
-
(ii) вербальный и невербальный каналы связаны и дополняют друг друга.
Кроме того, знак невербального канала передачи информации может маскироваться.
Рассмотрим указанные возможности.
Искусство взятки – маскировка жеста
Использование маскировки – типичная дискурсивная практика закрытых дискурсов. Действительно, сокрытие коммуникации от внешнего наблюдателя позволяет уйти от санкции, какой бы она ни была – формальной и определяемой законом или неформальной, связанной с моральным осуждением. Например, в сленге потребителей наркотиков представлены многочисленные названия, которые используются в соответствующем дискурсе для именования марихуаны: баша-тумна , бошка , ганжа , гарик , жарех , ка-напа , конопеть , маняга , план , пласт , пластина , табакерка , трава , шалой , шан , шишка , шмаль . Некоторые из них – дым , драч , марго , маруся , молоко , сам – могут использоваться в целях маскировки содержания разговоров.
В дискурсе о взятках наиболее частая форма маскировки – модификация конвенционального жеста. Общая конвенциональ-ность, общепринятость жеста обеспечивает его узнавание собеседником, а модификация дает возможность хотя бы в какой-то мере сокрыть содержание. В качестве при- мера проанализируем фрагмент видеозаписи беседы чиновника с женщиной, представлявшейся «решалой» и выполнявшей посреднические функции между чиновником и коммерсантом. Чиновник (участник К) в ответ на вопрос о необходимой сумме денег экспонирует 2 следующий жест: поднимает руку с вертикально вытянутым указательным пальцем, опирающимся на сжатую ладонь, на уровень глаз, отклоняет указательный палец назад в сторону правого плеча, затем совершает этим пальцем полукруг в сторону и лишь затем фиксирует палец перед собой на уровне глаз.
Общепринятый жест, обозначающий «один» (жест «Один»), не содержит дополнительных динамических невербальных компонентов. Он сводится к тому, что человек поднимает указательный палец руки, опирающийся на сжатую ладонь, на уровень глаз и фиксирует его на некоторое время. Следовательно, жест, экспонируемый чиновником, не является конвенциональным, то есть общепринятым, что затрудняет его распознавание. Однако в рассматриваемом случае этот прием маскировки не срабатывает, поскольку собеседница (участница Ю) переспрашивает его (участника К) и дожидается положительного ответа:
-
(2) Ю : И третий вопрос. По поводу РЖД. Значит Саркисян 3. Я встречалась с Саркисяном, вот, как бы он спрашивает, можно ли сумму поменьше сделать.
[участник К экспонирует жест]
Ю : Это что это?
К : Ну да. Это так называется.
Ю : Понятно. Один миллион?
К : Да.
Участница диалога Ю все прекрасно поняла ( понятно ), но поскольку именно она скрыто вела видеозапись, то в соответствии с полученными ею инструкциями постаралась снять неясность реплик чиновника. Следовательно, ее подтверждающая реплика Один миллион? и согласие ( да ) участника К с высказанным предположением собеседницы дезавуировали попытку маскировки.
Отметим, что описание жеста «Один» отсутствует в упоминавшемся словаре жестов [Григорьева, Григорьев, Крейдлин, 2001].
Взятка – отсутствие связи между словом и жестом
В ситуации, когда вербальный и невербальный каналы не связаны друг с другом (вариант i), взятка передается, но вербально это никак не отражается и не фиксируется в характерных жестах.
Рассмотрим типичный пример. Китайский коммерсант неправомерно использовал бренды известных товаропроизводителей. Будучи уличеным в продаже контрафактной продукции, он попытался дать взятку. Момент передачи взятки зафиксирован на видеозаписи (рис. 1).
Несмотря на очевидную жестикуляцию – оперативник (участник слева) протягивает руки в направлении китайского коммерсанта (участник справа) и разводит их в стороны, снова протягивает руки, а коммерсант передает ему пачку банкнот над столом, – речевое поведение никак не отражается в невербальном: в этот момент происходит изменение состава участников разговора (появляется племянник-шофер коммерсанта, помощница коммерсанта), что обсуждается участниками. Ни в одной из реплик участники не комментируют передачу денег. Лишь уже получив банкноты, участник слева произносит фразу Давайте, извините, я проверю, после чего что-то делает с полученной пачкой банкнот (скорее всего, пересчитывает).
В проведенной официальной лингвистической экспертизе сделан следующий вывод: в разговоре не обсуждается передача денежных средств, хотя «картинка» недвусмысленно указывает на то, что коммерсант передает банкноты оперативнику. Вывод лингвистической экспертизы правомерен, но неполон. Действительно, хотя вербальное подтверждение передачи денег отсутствует, но невербальная часть коммуникации – видеоряд – содержит всю необходимую информацию. В этом случае требуется проанализировать объект исследования в терминах семиотики, рассмотрев видеоролик в динамике как разворачивающийся сюжет повествования: посещение ресторана, деловые переговоры и т. п. В ранее опубликованной статье автора [Баранов, 2018] для этого предлагается использовать категориальный аппарат (метаязык), основанный на грамматиках сюжетов (story grammars) (подробнее о них см.: [Arijon, 1991; Prince, 1973; Rumelhart, 1975]). Анализ сюжета динамического повествования проводится по следующим основным составляющим: экспозиция, событие, эпизод, сцена, резюме (завершение).

Рис. 1. Момент передачи денег на видеозаписи оперативно-разыскного мероприятия
Fig. 1. The situation of money handing over recorded while intelligence gathering
В экспозиции вводятся участники описываемых событий, устанавливается место и время действия. В рассматриваемом случае в видеоматериале экспозиция отсутствует. Сюжет реализуется в событиях – законченных ситуациях, являющихся результатом деятельности участников и действия неодушевленных сил. События состоят из эпизодов – частей деятельности участников, которые выступают промежуточным этапом в переходе от старого состояния мира к новому и соответствуют одной теме. Эта деятельность участников и приводит к самому событию. Эпизоды включают последовательность сцен – таких частей эпизода, в которых сохраняется единство участников, места, времени, действия и ракурса изображения в процессе осуществления деятельности, приводящей к переходу от старого состояния мира к новому в контексте события.
В обсуждаемом случае необходимо проанализировать сцену непосредственной передачи денег – пачки банкнот. Как уже отмечалось, лингвистическому (точнее, семиотическому) анализу подлежат те компоненты сцены, в которых присутствуют конвенциональные знаки, и в частности жесты. На рисунке 1 представлены следующие жесты: 1) коммерсант через стол правой рукой передает банкноты оперативнику (участник слева) – жест «Передача», направленный конкретному лицу, экспонирование этого жеста предполагает движение руки дающего, держащей передаваемый объект, по направлению к адресату; 2) участник слева (оперативник) сводит (не до конца) обе руки впереди по направлению к коммерсанту, а затем разводит их в стороны, что представляет собой вежливый жест «Отказ» от передаваемого объекта 4. Затем после неоднократного экспонирования жеста «Передача» коммерсантом принимает пачку банкнот. И жест «Передача», и жест «Отказ» конвенциональны и широко используются как невербальные сопроводители реплик в диалоге. Таким образом, анализ знаковой составляющей сцены позволил бы подтвердить очевидное – передачу денежных средств со стороны коммерсанта оперативнику.
Отметим, однако, что отсутствие сопряженности поведения участников с вербаль- ной составляющей разговора оказывается значимым препятствием для лингвистической экспертизы.
Искусство взятки – словесные намеки и красноречивые жесты
Весьма часто вербальный и невербальный каналы дополняют друг друга (вариант ii). В таких ситуациях собственно вербальная часть коммуникации – реплики участников – так или иначе координируется с невербальной. Опытные манипуляторы сознательно связывают речевое и неречевое поведение, что позволяет донести свое коммуникативное намерение до адресата так, чтобы у того не осталось сомнений. Самородки достигают этого интуитивно. Действительно, взятка – это речевое искусство. Кто пренебрегает его законами, тот терпит коммуникативные неудачи или подвергается уголовному преследованию (часто реализуется и то и другое).
Разберем пример, хорошо иллюстрирующий заявленный тезис, хотя и несколько ущербный из-за того, что экспертизу проводил квалифицированный специалист, а это не позволило манипулятору полностью достичь своих целей.
Фабула дела такова. Некий коммерсант (так и будем его называть – «Коммерсант») получает различными способами кредиты от крупного банка на очень большую сумму, исчисляемую сотнями миллионов рублей, однако отдавать эти кредиты не спешит. Он выбирает стратегию дискредитации банка: обратившись в правоохранительные органы, сообщает, что у него вымогают взятку. По словам коммерсанта, один из представителей банка (назовем его «Коллектор» – доверенное лицо банка, которое было уполномочено урегулировать данную проблему) якобы хочет получить от него деньги за то, чтобы смягчить требования банка о возврате кредитов, то есть отсрочить, уменьшить сумму возврата и т. п. Коммерсанта снабжают замаскированной видеокамерой, и он отправляется на встречу с Коллектором.
В разговоре, состоявшемся в ресторане, Коммерсант и Коллектор обсуждают самые разнообразные темы – от женщин и бизнеса до международной политики. Однако самая существенная часть приходится на не- большой фрагмент беседы, который воспроизводится ниже:
-
(3) Коммерсант : Давай строить реальные планы, я готов.
Коллектор : Готовы, и понятно, что с деньгами сейчас проблема у всех, ну реально у всех, с ликвидностью проблемы у всех.
Коммерсант : (жест рукой, пересчитывает деньги) Ууу...
Коллектор : (улыбается) Золотой вы человек!
Коммерсант : (жест рукой) Думай сам, делай предложения, мы готовы.
Коллектор : Хорошо, я наберу, встретимся еще.
Коммерсант : Не затягивай, мы готовы.
Из приведенного транскрипта следует, что Коммерсант после реплики Коллектора Готовы, и понятно, что с деньгами сейчас проблема у всех, ну реально у всех, с ликвидностью проблемы у всех экспонирует жест общей длительностью приблизительно в одну секунду, имитирующий счет денег – жест «Счет / Отсчет денег». Начальное положение рук Коммерсанта при экспонировании жеста – пальцы обеих рук согнуты в кулаки, кулаки сближены на небольшое расстояние, но не соприкасаются друг с другом. Большие пальцы кулаков находятся ближе всего друг к другу. Кистью правой руки Коммерсант делает движения сверху вниз – наискось (вперед по направлению к собеседнику), как бы пересчитывая или отсчитывая банкноты. Ниже даны изображения этого жеста в динамике (см. рис. 2–4).
Хотя тема денег в репликах участников затрагивается лишь вскользь (Коллектор неопределенно говорит: понятно, что с деньгами сейчас проблема у всех, ну реально у всех, с ликвидностью проблемы у всех ), жест Коммерсанта красноречив. Он указывает на то, что Коммерсант неспровоцированно выражает готовность передать собеседнику какую-то сумму денег наличными.
Ситуация довольно очевидная, однако она очевидна только с точки зрения академического обсуждения семантики диалога. Лингвистическая экспертиза как особый жанр требует развернутого доказательства, аргументации, которая убедит и суд, и стороны, участвующие в процессе, что провокация взятки со стороны Коммерсанта имела место. Иными словами, следует выявить и представить максимум аргументов в пользу доказываемого тезиса.
В рассматриваемом случае аргументы относятся как к семантике, так и к прагматике диалога. Кроме того, необходимо учесть семантику и прагматику жеста как части се-миозиса диалога, включающего вербальные и невербальные знаки.

Рис. 2. Экспонирование жеста «Счет / Отсчет денег» – фаза 1
Fig. 2. Gesture “Counting money” display. Phase 1

Рис. 3. Экспонирование жеста «Счет / Отсчет денег» – фаза 2
Fig. 3. Gesture “Counting money” display. Phase 2

Рис. 4. Экспонирование жеста «Счет / Отсчет денег» – фаза 3
Fig. 4. Gesture “Counting money” display. Phase 3
Итак, во-первых, на выплату наличных указывает иконическая (образная) составляющая жеста, которая по существу является имитацией счета или отсчета банкнот. Во-вторых, на адресата жеста – получателя денежной суммы – указывает его направленность: жест пространственно направлен в сторону Коллектора. Виртуальные деньги отсчитываются в его сторону, причем провокатор взят- ки – Коммерсант – не учел, что все его движения руками (в том числе жесты) фиксируются на его же видеокамеру. В-третьих, вербальное окружение жеста (реплики участников) тематически связаны с деньгами: Коллектор говорит о проблеме с деньгами, а Коммерсант выражает готовность помочь с этим: Думай сам, делай предложения, мы готовы (третья реплика Коммерсанта) и не затя- гивай, мы готовы (четвертая реплика Коммерсанта). В-четвертых, показательна речевая и мимическая реакция на жест Коммерсанта – Коллектор улыбается и произносит: Золотой вы человек! Такая реакция необъяснима, если принимать во внимание только речевую, вербальную часть разговора. Непонятна реакция Коллектора и в том случае, если предположить, что жест Коммерсанта имеет иную семантику. Если же жест Коммерсанта понимается именно в смысле предложения денег, то и реплика Коллектора и его улыбка вполне объяснимы, а разговор получает естественную интерпретацию. В-пятых, последующим приглашающим жестом Коммерсант побуждает Коллектора рассмотреть его предложение: (жест рукой) Думай сам, делай предложения, мы готовы. Этот жест заключается в том, что Коммерсант протягивает правую руку с открытой ладонью в сторону Коллектора (рис. 5).
Последовательность экспонирования жестов «Счет / Отсчет денег» и «Приглашение» в сочетании с речевыми репликами участников, которые анализировались выше, однозначно указывает на то, что Коммерсант предлагает Коллектору наличные деньги, хотя и делает это не прямо, а косвенно. Однако данное побуждение, хотя и является косвенным по форме, по семантике вполне эксплицитно – в том смысле, в котором косвенные речевые акты (indirect speech acts) представ- ляют собой эксплицитную форму сообщения семантической информации. Действительно, за обеденным столом реплика участника Не могли бы вы мне передать соль является косвенным (и в силу этого вежливым), но эксплицитным способом побуждения адресата. Интерпретация адресатом этого речевого акта как вопроса в собственном смысле и ответ Да без последующих действий ведет к сбою в общении и коммуникативной неудаче. Аналогично этому и рассматриваемое сочетание речевого и жестового поведения участников, являющееся не чем иным, как предложением денег. В противном случае общение прерывается, а участники переходят к метаязыковому выяснению того, кто и что имел в виду.
В-шестых, еще один аргумент в пользу вывода о выплате денег обнаруживается в ответной реакции Коммерсанта на вопрос Коллектора, реализующейся в следующей последовательности реплик:
-
(4) Коммерсант : Билет покупает в Краснодар. Говорю, закажи, дура, гостиницу, мы улетаем в пять тридцать или двенадцать тридцать, гостиницу закажи. Она какую-то х..ню пишет мне. Я, на х...я эта х...ня двадцать минут от центра города. Она пишет лучшие гостиницы в Ярославле и Переславле.
Коллектор : Угу.
Коммерсант : Дура, мы же летим, в Краснодар, бл...дь.
Коллектор : Когда обратно?
Коммерсант : В субботу.

Рис. 5. Экспонирование жеста «Приглашение»
Fig. 5. Display of gesture “Invitation”
Коллектор : Ну, в понедельник.
Коммерсант : Да. Мы готовы строить реальные планы.
Коллектор : Расчет деньгами или недвижимостью?
Коммерсант : (делает жест пальцами правой руки, говорящий, что расчет деньгами).
Коллектор : Не вижу препятствий. До понедельника предложения будут.
Коммерсант : История всем понятна.
Коммерсант, отвечая на реплику Коллектора Расчет деньгами или недвижимостью? , делает жест пальцами правой руки, состоящий в многократном трении друг о друга подушечек большого и указательного пальцев в положении большого пальца сверху. Кисть руки Коммерсанта при этом направлена в сторону Коллектора (рис. 6). Назовем этот невербальный знак жестом «Тити-мити»5.
Данный жест, вероятно, в онтогенезе (этимологически) связан с пересчетом денег. В этом смысле он может рассматриваться как вариант жеста «Счет / Отсчет денег», который, правда, обычно экспонируется в более широком классе ситуаций – для выражения необходимости денег, для указания на недостаток денежных средств и т. п. В данном примере и в контексте разговора в целом данный жест передает семантику выплаты денежных средств.
Причем жестом «Счет / Отсчет денег» Коммерсант указывает именно на выплату наличными. Это подтверждается и другими фрагментами разговора: в случаях, когда возникает тема наличных денег, Коммерсант также экспонирует жест «Счет / Отсчет денег»:
-
(5) Коммерсант: А все банально. Эта п...да, Баська, ну Барселона Петровна, которая, возглавляет наш районный (неразборчиво). Она просто с базы, которая у нас завозит.
Коллектор : Угу.
Коммерсант: Захотела снять денег, своим строителям отдать, бригадиру, чтобы они там чего-то построили (жест рукой «Счет / Отсчет денег»).
Экспонирование Коммерсантом жеста «Счет / Отсчет денег» практически одновременно с репликой Захотела снять денег, своим строителям отдать , бригадиру (рис. 7), указывает на то, что и ранее проанализированный жест Коммерсанта (см. рис. 2–4) передает семантику выплаты наличных.
Жест «Счет / Отсчет денег» сопровождает и следующую реплику Коммерсанта:
-
(6) Коммерсант: Нет, такая хорошая. Была вообще свинья свиньей, худая, злая какая-то как собака. А сейчас видимо бабок заработала такая, тратит, одевается, долги отдала.

Рис. 6. Экспонирование жеста «Тити-мити»
Fig. 6. Display of gesture “Titi-mity”

Рис. 7. Экспонирование жеста «Счет / Отсчет денег» – начальная фаза
Fig. 7. Display of gesture “Counting money” – the initial phase
Семантика фразы тратит, одевается, долги отдала предполагает, что оплата каких-то услуг или возврат долгов произведены наличными.
Проведенный анализ с определенностью указывает на то, что в исследованном фрагменте (3) Коммерсант предлагает Коллектору деньги, причем весьма вероятно, что речь идет о наличной выплате.
Искусство лингвистической экспертизы против искусства взятки
Талантливый коммуникатор в состоянии эффективно замаскировать в своем речевом поведении криминальный смысл. Действительно, в последнем рассмотренном примере речевая составляющая не дает оснований для вывода о денежных предложениях Коммерсанта. Однако, несмотря на явно недостаточное собственно научное описание жестовой составляющей коммуникации (ни один из рассмотренных жестов не описан в уже упоминавшемся словаре [Григорьева, Григорьев, Крейдлин, 2001]), эксперт-лингвист может достаточно точно проанализировать диалог, выявив необходимые связи между речевым и неречевым поведением его участников. Научные методы описания, разрабатываемые в лингвистической семантике, теории речевых актов и теории диалога, дают возможность предложить адекватные семантические интерпретации жестов и других невербальных знаковых элементов ситуации общения, даже если они отсутствуют в справочных и словарных источниках. Более того, если существующие описания неудачны, эксперт-лингвист вправе предложить свое описание, обосновав его по тем критериям, которые приняты в современной лингвистической теории.
При этом очевидно, что далеко не все объекты исследования лингвистической экспертизы содержат всю необходимую информацию для однозначных выводов. Поскольку многие невербальные знаки коммуникации многозначны или обладают очень широкой семантикой (см., например: [Halliday, 1978; Fernande, 1990]), то выводы лингвистической экспертизы по такой сложной фактуре могут носить вероятностный характер, тем более что многие объекты экспертизы (в данном случае видеозаписи) получены в результате оперативно-разыскных мероприятий, проводящихся в далеко не идеальных условиях. Представляется, однако, что и вероятностные выводы по таким объектам исследования вполне допустимы и важны для принятия судебного решения. Как известно, никакое доказательство в процессе судебного следствия априори не имеет для суда заранее установленной силы (ст. 67 ГПК РФ, ст.17, 340 УПК РФ, ст. 84 КАС РФ, ст. 71 АПК РФ). Тем самым значимость лингвистической экспертизы и ее доказательность устанавливаются в сопоставлении с другими доказательствами – важно, чтобы они были.
В рамках собственно лингвистики подобные исследования чрезвычайно важны в том отношении, что связь между вербальной и невербальной частями коммуникации оказывается решающей для правильной интерпретации как отдельных реплик диалога, так и его общей коммуникативной направленности. В этом смысле лингвистическая экспертиза как направление прикладной лингвистики стимулирует исследования в области лингвистической теории, на что неоднократно обращал внимание В.А. Звегинцев [Звегинцев, 1968]. Распространение сферы компетенции лингвистики на знаковую часть невербальной коммуникации позволяет надеяться на более тесное практическое взаимодействие двух важных дисциплин – лингвистики и семиотики, контакты между которыми к настоящему времени остаются на уровне общих пожеланий и теоретических построений.
Список литературы Слово и жест в лингвистических экспертизах по делам о взятках: к семантике и прагматике "закрытых" дискурсов
- Баранов А. Н., 2012. Введение в прикладную лингвистику. Изд. 4-е, испр. и доп. М. : УРСС. 360 с.
- Баранов А. Н., 2018. Метаязыки описания невербальной составляющей комбинированных текстов для целей лингвистической экспертизы // Коммуникативные исследования. № 3. С. 9-36. DOI: 10.25513/2413-6182.2018.3.9-36.
- Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е., 1992. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкознания. № 2. С. 84-99.
- Грайс Г. П., 1985. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Лингвистическая прагматика. Вып. XVI. М. : Прогресс. С. 217-237.
- Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е., 2001. Словарь языка русских жестов. М. : Яз. рус. культуры ; Вена : Вен. славист. альм. 256 с. (Язык. Семиотика. Культура).
- Елистратов В. В., 1994. Словарь московского арго. М. : Рус. слов. 700 с.
- Журинский А. Н., 1989. Семантическая структура загадки: неметафорические преобразования смысла. М. : Наука. 126 с.
- Звегинцев В. А., 1968. Теоретическая и прикладная лингвистика. М. : Просвещение. 338 с.
- Левин Ю. И., 1978. Семантическая структура загадки // Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (структура, смысл, текст). М. : Наука. С. 283-314.
- Arijon D., 1991. Grammar of the Film Language. Los Angeles : Silman-James Press. 624 р.
- Fernande S.-M., 1990. Semiotics of Visual Language (Advances in Semiotics). [S. l.]: Indiana University Press. 276 p.
- Halliday M. A. K., 1978. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. L. : Open University Press. 256 р.
- Prince G., 1973. A Grammar for Stories. The Hague ; Paris : Mouton Publ. 106 p.
- Rumelhart D. E., 1975. Notes on a Schema for Stories // Representation and Understanding : Studies in Cognitive Science / ed. by D. G. Bobrow, A. Collins. N. Y. : Academic Press, Inc. P. 211-236.