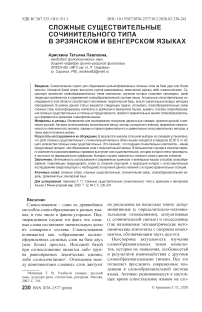Сложные существительные сочинительного типа в эрзянском и венгерском языках
Автор: Арискина Татьяна Павловна
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 3 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Словосложение служит для образования цельнооформленных сложных слов на базе двух или более простых. Исходной базой может выступать группа равноправных лексических единиц либо словосочетание. Существует множество словообразовательных типов композитов, изучение которых позволяет проследить, какие тенденции проявляются в современной словообразовательной системе языка. Актуальные сопоставительные исследования в этой области способствуют пополнению теоретической базы, вносят значительный вклад в методику преподавания. В рамках данной статьи решаются следующие задачи: установить словообразовательные связи сложных слов, классифицировать композиты в эрзянском и венгерском языках, выявить способы словообразования сложных существительных и степень их продуктивности, провести сравнительный анализ словообразовательных формантов в эрзянском и венгерском языках. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили двуязычные словари: эрзянско-русский и венгерско-русский. Автором использовались описательный метод, методы синхронного анализа, формально-семантического и компонентного анализа, приемы историко-сравнительного и сравнительно-сопоставительного методов, а также квантитативный анализ. Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа сплошной выборки из словарей установлено, что доля сложных существительных с сочинительной связью в обоих языках находится в пределах 20,00 % от общего количества сложных имен существительных. Это означает, что создание сочинительных композитов - менее продуктивный процесс, чем образование слов с подчинительной связью. В большинстве случаев в качестве первого компонента в рассматриваемых примерах выступает имя существительное, историю которого легко проследить, в частности по деривационным суффиксам. В редких случаях компоненты сложного слова утратили значение. Заключение. Интенсивность использования в современном эрзянском и венгерском языках способов словообразования, позволяющих продуцировать слова со сложной структурой, и возросший интерес к сопоставительным исследованиям свидетельствуют о необходимости изучения данного явления с историко-сравнительных позиций.
Сложные слова, сложные существительные, сочинительная связь, словообразовательная модель, эрзянский язык, венгерский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/147217980
IDR: 147217980 | УДК: 81’367.335.1:811.511.1 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.03.230-241
Текст научной статьи Сложные существительные сочинительного типа в эрзянском и венгерском языках
Словосложение – один из древнейших способов словообразования в разных языках, в том числе в финно-угорских. Подтверждением служит тот факт, что сложные слова составляют значительную долю их словарного состава. Словосложение понимается как «образование цельно-оформленных сложных слов на базе двух (или более) простых. Исходной базой при словосложении является либо группа равноправных лексических единиц, либо словосочетание»1. Отношения между компонентами сложных слов диктуют их разделение на несколько типов: детерминативные (с определительно-подчинительными отношениями), копулятивные (с сочинительной связью) и посессивные (так называемые экзоцентрические метонимические композиты с опорным компонентом, обозначающим часть целого).
Неоспорима актуальность изучения словообразовательных типов композитов, истории их появления, особенностей и результатов взаимодействия с другими словообразовательными типами. Все это позволяет проследить современные тенденции в словообразовательной системе языка. Активно развивающееся в настоящее время сопоставление языков на сло-
вообразовательном уровне становится источником пополнения теоретической базы языкознания, оказывает положительное влияние на методику преподавания.
Разнообразие сложных существительных отмечается в способах образования, структуре, грамматических и стилистических особенностях, используемых словообразовательных моделях. Этим объясняется наличие множества подходов к классификации композитов и принципов их описания. Необходимость изучения композитов в эрзянском и венгерском языках с историко-сравнительных позиций обусловлена высокой интенсивностью использования в них различных способов словообразования, с помощью которых образуются слова со сложной структурой, а также интересом к сопоставительным исследованиям.
В рамках настоящей статьи предполагается описать словообразовательную структуру сложных существительных сочинительного типа в эрзянском и венгерском языках. Для достижения указанной цели необходимо установить словообразовательные связи композитов, представить их классификацию, выявить способы словообразования и степень их продуктивности, провести сравнительный анализ словообразовательных формантов в эрзянском и венгерском языках.
Обзор литературы
Сложные слова давно являются предметом пристального внимания лингвистов, тем не менее по многим вопросам, включая дефиницию композита, единой позиции так и не сложилось. В большинстве случаев сложное слово понимается как обобщенная единица словообразования, которая представлена двумя типами – сложными слитными и сложносоставными словами. Е. С. Кубрякова считает сращения сложно-аффиксальными словами, полагая, что акт словопроизводства в данном случае состоит в присоединении аффикса, но слово является сложным по своей структуре [9, 64]. Е. Н. Важина выделяет в числе дериватов, созданных посредством сложения, два типа сложных существительных: сложные слитные и сложносоставные, при этом сложные слит- ные существительные содержат минимум две корневые морфемы, а сложносоставные – минимум два слова-компонента [3]. М. У. Сулейбанова распространяет на словосложение признаки языковой универсалии: «1) наличие определенного конечного числа компонентов (морфем или основ), составляющих новообразованное слово; 2) положение основной и дополняющей морфем (в препозиции или постпозиции одна к другой); 3) вид синтаксической связи, в отношениях которой находятся компоненты новообразования – предикативная, атрибутивная, объектная» [16, 97].
Сложные слова облегчают процесс осмысления явления или объекта действительности, позволяют увидеть его связи с другими объектами путем использования сравнений и ассоциаций. Компоненты сложного слова объединяются в целое на основе логических законов, согласно правилам сочетаемости, как действующим в рамках одного языка, так и выступающим в качестве закономерностей в нескольких языках, что отражается на структурной организации сложного слова [6].
Ученые также активно пытаются понять истоки создания сложных слов. П. Поленцем был предложен достаточно полный перечень причин композитообра-зования, в который вошли номинация (отсутствие необходимого наименования); универбация многочленных конструкций; закрепление в сознании (использование семантически мотивированных слов, легко и прочно закрепляющихся в сознании); языковая экономия (стремление избавиться от громоздких конструкций); усиление выражения; устаревание номинативной единицы, потеря ее наглядности; образование по аналогии [18, 158 ].
При изучении сложных слов важно определиться с подходами и методикой исследования. Например, по мнению Л. С. Филипповой, необходимо различать морфемный и словообразовательный анализ композитов, поскольку сложное по структуре слово может быть создано другим способом2. Т. К. Иванова на ос-
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ нове способов, применяемых в словообразовании, выделяет морфологический и синтаксический подходы при изучении структуры сложного слова. В первом случае следует исходить из наличия в составе композита нескольких корневых морфем, образующих его производящую базу. Анализ именных композитов в зависимости от синтаксической роли их составляющих в соответствующих перифразах и семантических ролей «ведет к большему дроблению и специфическому подразделению словообразовательных моделей или типов, которые часто либо избыточны, либо недостаточны, а само понимание композита-существительного сводится к трансформации его в соответствующую перифразу. Интерпретация какого-либо композита осуществляется в этом случае по схеме: в композите АВ ʻВ связано каким-либо образом с Аʼ» [5]. Ученый достаточно активно изучает композиты, анализирует словообразовательные гнезда, состоящие из сложных слов, как элементы словообразовательных систем, обращается к сопоставительным исследованиям [4; 6].
Существуют трудности, связанные с правописанием сложных слов [1; 17]. Е. В. Бешенкова и О. Е. Иванова проблемы установления и кодификации этой нормы рассматривают сквозь призму факторов, действующих в сфере написания сложных существительных [2]. В частности, речь идет о существовании переходных явлений, тенденции к унификации/дифферен-циации написаний, изменчивости словарного состава, влиянии аналогии. Авторы отмечают, что объективно существует орфографическая норма, под которой понимается исторически сложившееся на- писание. Составители словарей, по сути, описывают эту норму, частично корректируют, пытаются предугадать ее перспективы и движущие силы. В настоящее же время проблема установления нормы написания сложных существительных дополняется модой на дефисное написание.
На материале финно-угорских языков сложные существительные рассматриваются как в общих грамматиках3 [11; 13; 14; 19; 20], так и в отдельных исследо-ваниях4 [7]. Отмечается рост количества трудов сопоставительного характера5 [10; 12; 17]. Например, С. А. Сабанова при сравнении способов образования слов-слитков в английском и удмуртском языках обнаружила существенные различия: «…в удмуртском языке усечению не подвергается ни один из компонентов, в отличие от английских слов-слитков. Все слившиеся слова… могут рассматриваться как отдельные полноценные единицы... В английском же языке большая часть компонентов утрачивает свое лексическое значение, так как компоненты подвергаются усечению и приобретают новое значение в слившемся слове. В удмуртском языке практически нет примеров слов-слитков, в которых компоненты подвергаются усечению» [15, 151 ].
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили словари: Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянско-русский словарь6 и Magyar-orosz szótár = Венгерско-русский словарь7.
Для отбора части материала исследования использовался метод сплошной выборки из словарей. Для описания характеристик композитов применялся описательный метод. Метод анализа по не- посредственно составляющим позволил выявить и дифференцировать компонентный состав композитов. С помощью контрастивного способа были обнаружены различия исследуемых композитов в эрзянском и венгерском языках. Посредством индуктивного метода осуществлялся переход от конкретных наблюдений над языковыми фактами к их систематизации и обобщению. Статистический метод дал возможность обнаружить наиболее частотные случаи словообразования, выявить распространенные модели композитов и сращений, сгруппировать сложные слова по выбранным признакам.
Результаты исследования и их обсуждение
В указанных словарях было выделено 546 композитов эрзянского языка, 943 – венгерского, среди них сложных существительных с сочинительной связью в эрзянском языке отмечено 112 (20,51 %), в венгерском – 176 (18,66 %). Эти данные свидетельствуют о том, что создание сочинительных композитов – менее продуктивный процесс, чем образование слов с подчинительной связью.
Проанализируем словарные примеры с сочинительной связью с точки зрения основ, входящих в состав сложного слова. Первым компонентом, как правило, становится имя существительное . В эрзянском языке зафиксировано 100 таких слов, или 89,29 % от числа всех сочинительных композитов, например: атят-бабат ʻ собир. сущ. старик со старухой; супругиʼ ( атя ‘старик, пожилой мужчина; муж’ + баба ʻстаруха; бабушкаʼ); велькст-алкст ʻ собир. сущ. постельʼ ( велькс ʻпокрывало, одеяло; покровʼ + алкс ʻниз, основание, фундамент; постельʼ); ила-кирда ʻобычай; ворожбаʼ ( ила ʻобычай, обрядʼ + кирда ʻ(много) разʼ); кедть-пильгть ʻ тк. мн. руки-ногиʼ ( кедь ʻрукаʼ + пиль-ге ʻногаʼ); латко-лутко ʻдолы и оврагиʼ ( латко ‘овраг’ + лутко ‘лутошко ( верхний слой лыка )ʼ); мель-прев ʻнамерение, замысел; память; мысльʼ ( мель ʻжелание, стремление, намерение; мнение; мысль; настроениеʼ + прев ʻум, разумʼ); понкст-панарт ʻ тк. мн. кальсоны и рубашкиʼ
( понкст ‘штаны; подштанники’ + панар ʻрубашкаʼ); сэрь-келе ʻ тк. ед. станʼ ( сэрь ʻвысота; рост; телоʼ + келе ʻширинаʼ).
Доля таких слов в венгерском языке чуть меньше – 81,25 % (143 примера): ág-bog ʻветви, сучьяʼ ( ág ʻсук; ветвь; веткаʼ + bog ʻузелʼ); árfolyam-emelked és ʻповышение курсаʼ ( árfolyam ʻкурсʼ + emelkedés ʻ отгл. сущ. подъем; увеличение, повышениеʼ); autóbusz-megállóhely ʻавтобусная остановка, остановка автобусаʼ ( autóbusz ʻавтобусʼ + megállóhely ʻостановка, место остановкиʼ); baseball-játékos ʻбейсболист, игрок в бейсболʼ ( baseball ʻбейсболʼ + játékos ʻигрокʼ < játék ʻигра; партия; гейм; игрушкаʼ); fehérnemű-osztály ʻотдел бельяʼ fehernemu ‘белье’ + osztaly ‘класс; отдел, отделение; секцияʼ); galopp-pálya ʻскаковой ипподромʼ ( galopp ʻгалоп; скачкиʼ + pálya ʻжелезнодорожное полотно, путь; орбита; траектория; площадка; дорогаʼ); óvónőképző-intézet ʻпедучилище воспитателей дошкольных учрежденийʼ ( ovonokepzo ‘воспитатель дошкольных учрежденийʼ + intézet ʻинститут; учреждение; (высшее) училищеʼ) и др.
Среди существительных, используемых в качестве первого компонента, в эрзянском языке можно выделить собирательные (5 слов, 4,85 % от числа композитов с первой частью – существительным), например: ават-тейтерть ʻ собир. сущ. мать и дочьʼ ( ава ʻженщина; мать; хозяйка; замужняя женщинаʼ + тейтерь ʻдочь; девушкаʼ); ават-церат ʻ собир. сущ. мать и сынʼ ( ава ʻженщина; мать; хозяйка; замужняя женщинаʼ + цера ʻмужчина; сынʼ); карть-пракстат ʻ уст. собир. сущ. лапти, портянки, онучиʼ ( карь ʻлапотьʼ + пракста ʻпортянкаʼ); кевть-човарт ʻ собир. сущ. камень и песокʼ ( кев ʻкаменьʼ + човар ʻпесокʼ); отглагольные (12 слов, 11,88 %): видема-сокамо ʻсевʼ ( видема ‘ отгл. сущ. сев’ + сокамо ‘ отгл. сущ. пахота, вспашкаʼ); ерамо-арамо ʻзаготовкаʼ ( ерамо ʻ отгл. сущ. заготовкаʼ + арамо ‘ отгл. сущ. становление’); кирде-мат-нежеть ʻ тк. мн . подпоркиʼ ( кир-дема ʻ отгл. сущ. место для хранения чего-л. ʼ + неже ʻподпоркаʼ); колема-па-лома ʻтоксикозʼ ( колема ʻ отгл. сущ. порча, гниение ( продуктов )ʼ + палома ʻ отгл.
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ сущ. горениеʼ); миема-рамамо ʻпродажа, сбыт, купля-продажаʼ ( миема ʻ отгл. сущ. продажа, сбытʼ + рамамо ʻ отгл. сущ. покупка; купляʼ); муськема-човамо ʻстиркаʼ ( муськема ʻ отгл. сущ. стиркаʼ + човамо ʻ отгл. сущ. точение, оттачивание; растирание; точкаʼ); пидевкс-паневкс ʻстряпняʼ ( пидевкс ʻ отгл. сущ. первое блюдо (кушанье)’ + паневкс ʻ отгл. сущ. выпечкаʼ); пидема-панема ʻстряпание; стряпняʼ ( пи-дема ʻ отгл. сущ. варение, варкаʼ + пане-ма ʻ отгл. сущ. печениеʼ); трямо-раш-тамо ʻразведениеʼ ( трямо ʻ отгл. сущ. воспитание; иждивение, содержаниеʼ + раштамо ʻ отгл. сущ. размножение; рождение, увеличение, накоплениеʼ); эря-мо-аштема ʻжизнеописание, биографияʼ ( эрямо ʻ отгл. сущ. жизньʼ + аште-ма ʻ–ʼ); ярсамка-каванямка ʻеда, пища; угощениеʼ ( ярсамка ← ярсамо ʻ отгл. сущ. еда; пищаʼ + каванямка ← каваня-мо ʻ отгл. сущ . угощениеʼ); ярсамо-симе-ма ʻпир, угощениеʼ ( ярсамо ʻ отгл. сущ. еда; пищаʼ + симема ʻ отгл. сущ. питье; пьянствоʼ). Как видно из примеров, в эрзянском языке если первым компонентом композита является отглагольное существительное, то оно же становится и вторым его компонентом.
В венгерском языке собирательные существительные в качестве первого компонента не зафиксированы, а доля отглагольных незначительна (5 слов, 2,84 % среди примеров с первой частью – существительным): sírás-rívás ʻстенания; плачʼ ( sírás ʻ отгл. сущ. плачʼ + rívás ʻ–ʼ); sürgés-forgás ʻсуматоха, суета, суетняʼ ( sürgés ʻ отгл. сущ. суматоха, оживлениеʼ + forgás ʻ отгл. сущ. вращение, кружениеʼ); sütés-főzés ʻстряпняʼ ( sütés ʻ отгл. сущ . жаренье; печенье, выпекание; выпечкаʼ + főzés ʻ отгл. сущ . варка, приготовление; готовка, стряпня’); szabás-varrás ʻкройка и шитьеʼ ( szabás ʻ отгл. сущ. кройка; покрой, фасонʼ + varrás ʻ отгл. сущ. шитье; строчка; шов’); kereslet-kínálat ʻспрос и предложениеʼ ( kereslet ʻспрос’ < keresni ʻискать; спрашивать, требоватьʼ + kínálat ʻпредложениеʼ < kínálni ʻугощать/уго-стить, предлагать/предложитьʼ).
Доля других частей речи в качестве первого компонента крайне невелика.
Имя прилагательное в качестве первого компонента композитов в эрзянском языке отмечено в 2 примерах (1,79 %): алька-пулька ʻпиявкаʼ ( алька ʻудалой, лихойʼ + пулька ʻпузырьʼ); паро-сыре ʻдобро, что-то приятноеʼ ( паро ʻ1) прил. хороший; добротный; доброкачественный; прочный; богатый; 2) сущ. добро; богатство; 3) на-реч . хорошоʼ + сыре ʻстарыйʼ).
В венгерском языке обнаружено 16 подобных примеров (9,09 %): labdarúgó-csapat ʻфутбольная командаʼ ( labdarúgó ʻ1) прил. футбольный; 2) сущ. футболист, -каʼ + csapat ʻгруппа; отряд; команда; стая, косякʼ); látogató-útlevél ʻзагранпаспорт с визой посещенияʼ ( látogató ʻ1) прил. посещающий; 2) сущ. посетительʼ + útlevél ʻ(заграничный) паспортʼ); kivándorló-útlevél ʻэмиграционный паспорт, паспорт для лиц, окончательно покидающих странуʼ ( kivándorló ʻ прил. эмигрирующий, покидающий страну, выезжающий из страныʼ + útlevél ʻ(заграничный) паспортʼ); igazságügyi-minisztérium ʻминистерство юстицииʼ ( igazságügyi ʻсудебный, юридическийʼ + minisztérium ʻминистерствоʼ); gyalogos-aluljáró ʻподземный переходʼ ( gyalogos ʻ1) прил. пеший; пехотный; 2) сущ. пешеход; пехотинецʼ + aluljáró ʻподземный переход, пешеходный туннельʼ); árutermelő-képesség ʻтоварностьʼ ( árutermelő ʻ1) прил. товарный; 2) сущ. товаропроизводитель, производитель товараʼ + képesség ʻспособностьʼ) и др.
Причастие в эрзянском языке зафиксировано в 3 примерах (2,68 %): кишти-ця-морыця ʻ1) прич. пляшущий и поющий; 2) сущ. плясун, танцорʼ ( киштиця ʻ1) прич. пляшущий, танцующий; 2) сущ. плясун, танцорʼ + морыця ʻ1) прич. поющий; певчий; играющий; 2) сущ. певец, исполнитель ( песни )ʼ); резыця-палыця ʻ1) прич. больной (нездоровый человек); 2) сущ. больнойʼ ( ре-зыця ʻболеющий, чахнущий, хиреющийʼ + палыця ʻгорящий, пылающий’); три-ця-ваныця, триця-кастыця ʻкормилец и воспитательʼ ( триця ʻ1) прич. кормящий; 2) сущ. кормилецʼ + ваныця ʻ1) прич. смотрящий, наблюдающий; 2) сущ. наблюдательʼ / кастыця ʻ1) прич. выращивающий; воспитывающий; 2) сущ. воспитательʼ).
В венгерском языке таких примеров не обнаружено.
Глагольная основа как первый компонент сложного слова выделена один раз в эрзянском языке (0,89 %): ули-паро ʻвещи, пожитки; скарб; разг. добро; имуществоʼ ( улемс ʻесть, иметься; быть (находиться, присутствовать)ʼ + паро ʻ1) прил. хороший; добротный; доброкачественный; прочный; богатый; 2) сущ. добро; богатство; 3) нареч. хорошоʼ).
Для венгерского языка это также редкое явление.
Местоимение отмечено в венгерском языке в одном примере (0,57 %): egyik-másik ʻ сущ. кое-ктоʼ ( egy ʻ мест . одинʼ + másik ʻ прил . другойʼ).
Имя числительное в качестве первого компонента зафиксировано только в венгерском языке в 2 словах (1,14 %): másod-unokatestvér ʻтроюродный брат; троюродная сестраʼ ( másod - ʻвторой, второ-ʼ + unokatestvér ʻдвоюродный брат; двоюродная сестра; троюродный брат; троюродная сестраʼ); egy-kettő ʻпара, один-дваʼ ( egy ʻодин (одна, одно; раз)ʼ + kettő ʻдва, две, двоеʼ).
В ряде случаев установить происхождение первого компонента затруднительно. В эрзянском языке обнаружено 6 таких примеров (5,36 %): кундт-кандт ʻ тк. мн. сваленные деревья; бревнаʼ ( кундо ʻ–ʼ + кандо ʻгруз, тяжестьʼ); курмот-кармот ʻ тк. мн. пожиткиʼ ( курмо ʻ–ʼ + кармо ʻ–ʼ); курч-карч ʻсучьяʼ ( курч ʻ–ʼ + карч ʻсучок; корягаʼ); нуск-наск ʻ собир . мусорʼ ( нуск ʻ–ʼ + наск ʻ–ʼ); шумбрат-парт ʻ тк. мн. здоровье (пожелание)ʼ ( шумбра ʻ–ʼ + паро ʻ1) прил. хороший; добротный; доброкачественный; прочный; богатый; 2) сущ. добро; богатство; 3) нареч. хорошоʼ); тупавкс-тапавкс ʻневзрачный, неказистый (о человеке)ʼ ( тупавкс ʻ–ʼ + тапавкс ʻпутаницаʼ).
В выборке из венгерских словарей – 12 примеров (6,82 %): csiribí-csiribá ʻфокус-покус, абракадабраʼ (csiribí ʻ–ʼ + csiribá ʻ–ʼ); disc-jockey ʻдиск-жокей, ди-джейʼ (disc ʻ–ʼ + jockey ʻ–ʼ); dzsiu-dzsicu ʻджиу-джитсуʼ (dzsiu ʻ–ʼ + dzsicu ʻ–ʼ); egészbőr-kötés ʻ(цельный) кожаный переплетʼ (egészbőr ʻ–ʼ + kötés ʻпривязывание; свя- зывание; плетение; заключение; завязывание; вязанье; повязка; переплетʼ); etye-petye ʻшашни(-машни), амуры, шуры-муры, флиртʼ (etye ʻ–ʼ + petye ʻ–ʼ); félvászon-kötés ʻсоставной переплетʼ (félvászon ʻ–ʼ + kötés ʻпривязывание; связывание; плетение; заключение; завязывание; вязанье; повязка; переплет; контракт, сделка; связка; креплениеʼ); jövés-menés ʻсуматоха, суета, сутолокаʼ (jövés ʻ–ʼ < jönni ʻехать; приходить/прийти; приезжать/приехатьʼ + menés ʻ–ʼ < menni ʻидти; ехатьʼ); makeup ʻмакияжʼ (make ʻ–ʼ + up ʻ–ʼ); pop-corn ʻпопкорн, воздушная кукурузаʼ (pop ʻ–ʼ + corn ʻ–ʼ); ringy-rongy ʻотрепья; дряньʼ (ringy ʻ–ʼ + rongy ʻтряпка; лохмотья; тряпье, отрепье/отрепья; рваньʼ) и др.
Сложные существительные сочинительного типа могут употребляться с суффиксами. В эрзянском языке выявлено 27 подобных примеров (24,11 %). В основном они представлены суффиксами, участвующими в образовании имен существительных от глаголов, -ма/-мо (14 примеров, 51,85 % от числа композитов с суффиксами): мель-арсема, мель-бажамо ʻжелание и стремлениеʼ ( мель ʻжелание, стремление, намерение; мнение; мысль; настроениеʼ + арсема / бажа-мо ʻ отгл. сущ. дума; мысль; пожелание; мечта; желание; предложение; раздумье / стремление, желание; мечтаʼ); мир-эрямо ʻ собир. сущ. жизньʼ ( мир ʻмирʼ + эрямо ʻжизньʼ); суркс - сюлгамо ʻ этн. нагрудная пряжка в форме кольцаʼ ( суркс ʻкольцоʼ + сюлгамо ʻсюлгамо ( особый вид женской нагрудной застежки )ʼ); видема-сокамо ʻсевʼ ( видема ʻ отгл. сущ. севʼ + сокамо ʻ отгл. сущ. пахота, вспашкаʼ); ерамо-арамо ʻзаготовкаʼ ( ерамо ʻ отгл. сущ. заготовкаʼ + арамо ʻ отгл. сущ. становлениеʼ); кирдемат-нежеть ʻ тк. мн. подпорки’ ( кирдема ʻ отгл. сущ. место для хранения чего-л. ʼ + неже ʻподпоркаʼ); колема-палома ʻтоксикозʼ ( колема ʻ отгл. сущ. порча, гниение ( продуктов )ʼ + палома ʻ отгл. сущ. горениеʼ); миема-рама-мо ʻпродажа, сбыт, купля-продажаʼ ( мие-ма ʻ отгл. сущ. продажа, сбытʼ + рамамо ʻ отгл. сущ. покупка; купляʼ); муськема-човамо ʻстиркаʼ ( муськема ʻ отгл. сущ. стиркаʼ + човамо ʻ отгл. сущ. точение,
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ оттачивание; растирание; точкаʼ); пиде-ма-панема ʻстряпание; стряпняʼ ( пиде-ма ʻ отгл. сущ. варение, варкаʼ + панема ʻ отгл. сущ. печениеʼ); трямо-раштамо ʻразведениеʼ ( трямо ʻ отгл. сущ. воспитание; иждивение, содержаниеʼ + рашта-мо ʻ отгл. сущ. размножение; рождение, увеличение, накоплениеʼ); эрямо-аште-ма ʻжизнеописание, биографияʼ ( эрямо ʻ отгл. сущ. жизньʼ + аштема ʻ–ʼ); ярса-мо-симема ʻпир, угощениеʼ ( ярсамо ʻ отгл. сущ. еда; пищаʼ + симема ʻ отгл. сущ. питье; пьянствоʼ).
Более одного раза представлены суффиксы причастий -иця/-ыця (3 примера, 11,11 % от композитов с суффиксами): киштиця-морыця ʻ1) прич. пляшущий и поющий; 2) сущ. плясун, танцорʼ ( киш-тиця ʻ1) прич. пляшущий, танцующий; 2) сущ. плясун, танцорʼ + морыця ʻ1) прич. поющий; певчий; играющий; 2) сущ. певец, исполнитель ( песни )ʼ); резыця-палыця ʻ1) прич. больной (нездоровый человек); 2) сущ. больнойʼ ( резыця ʻболеющий, чахнущий, хиреющийʼ + палыця ʻгорящий, пылающийʼ); триця-ваныця, триця-ка-стыця ʻкормилец и воспитательʼ ( триця ʻ1) прич. кормящий; 2) сущ. кормилецʼ + ва-ныця ʻ1) прич. смотрящий, наблюдающий; 2) сущ. наблюдательʼ / кастыця ʻ1) прич. выращивающий; воспитывающий; 2) сущ. воспитательʼ); а также продуктивная морфема - кс (5 примеров, 18,52 %): балакс-эз-на ʻмуж сестрыʼ ( бала ʻхолостякʼ + эзна ʻзять, муж старшей сестры (по отношению к младшей сестре)ʼ); кши-ярсавкс ʻпищаʼ ( кши ʻхлебʼ + ярсавкс ʻеда, пищаʼ); оршавкст-карсевкст ʻ тк. мн. одежда, обмундированиеʼ ( оршавкс ʻодеждаʼ + карсевкс ʻобувьʼ); суркс-сюлгамо ʻ этн. нагрудная пряжка в форме кольцаʼ ( суркс ʻкольцоʼ + сюлгамо ʻсюлгамо ( особый вид женской нагрудной застежки )ʼ); пидевкс-паневкс ʻстряпняʼ ( пидевкс ʻ отгл. сущ. первое блюдо (кушанье)ʼ + паневкс ʻ отгл. сущ. выпечкаʼ).
В венгерском языке выявлено 106 примеров с суффиксами, их доля значительно больше, чем в эрзянском языке, – 60,23 %. Наиболее часто встречаются следующие:
-ás/-és (69 примеров, 65,09 % от числа композитов с суффиксами): evés- ivás ʻобильная еда и питье; пир, пиршество, пирушка’ (evés ʻеда’ + ivás ʻпитье; пьянствоʼ); bankszámla-igazolás ʻсправка о наличии счета в банкеʼ (bankszámla ʻбанковский счетʼ + igazolás ʻотгл. сущ. подтверждение; оправдание; удостоверениеʼ); baleset-biztosítás ʻстрахование от несчастных случаевʼ (baleset ʻнесчастный случай, происшествие, травма, аварияʼ + biztosítás ʻотгл. сущ. обеспечение, страхованиеʼ); árfolyam-átszámítás ʻпересчет курсаʼ (árfolyam ʻкурсʼ + átszámítás ʻотгл. сущ. пересчет; переводʼ); képviselő-választás ʻвыборы в палату депутатов / в парламентʼ (képviselő ʻдепутат; представитель, -ницаʼ + választás ʻвыбор; выборыʼ); írás-olvasás ʻграмотаʼ (írás ʻписание, написаниеʼ < írni ʻписать / на-ʼ + olvasás ʻчтениеʼ < olvasni ʻчитать / про-ʼ); gyermekrajz-kiállítás ʻвыставка детского рисункаʼ (gyermekrajz ʻдетский рисунокʼ + kiál lítás ʻвыставление, экспонирование; выставка, экспозицияʼ); nyelvoktatás-po li tika ʻполитика в области преподавания языковʼ (nyelvoktatás ʻобучение языкам, преподавание языков; обучение (какому-л.) языку, преподавание (какого-л.) языкаʼ + po li tika ʻполитикаʼ); kötőhártya-gyulla dás ʻконъюнктивитʼ (kötőhártya ʻконъюнктиваʼ + gyulla-dás ʻвоспалениеʼ); repü lőgép-kiállí-tás ʻавиасалонʼ (repü lőgép ʻсамолет; аэропланʼ + kiállítás ʻвыставление, экспонирование; выставка, экспозиция; внешнее оформлениеʼ); pe tefészek-gyulla-dás ʻвоспаление яичников, оофоритʼ (pe te-fészek ʻяичникʼ + gyulla dás ʻвоспалениеʼ); opera-előadás ʻоперный спектакльʼ (opera ʻопераʼ + előadás ʻотгл. сущ. изложение; лекция; доклад; представление, спектакльʼ); folyószámla-vezetés ʻведение текущего счетаʼ (folyószámla ʻтекущий счетʼ + vezetés ʻвождение, управление; ведение; командирование, руководствоʼ); evés-ivás ʻобильная еда и питье; пир, пиршество, пирушкаʼ (evés ʻедаʼ + ivás ʻпитье; пьянствоʼ); árfolyam-emelkedés ʻповышение курсаʼ (árfolyam ʻкурсʼ + emelkedés ʻотгл. сущ. подъем; увеличение, повышениеʼ); kölcsön-visszafizetés ʻпогашение займа/cсудыʼ
( kölcsön ʻзаем; ссудаʼ + visszafizetés ʻвозврат; погашениеʼ); informá ció-vis-sza ke res és ʻинформационный поискʼ ( információ ʻинформация; сведенияʼ + visszakeresés ʻпоискʼ); me legvíz-fű tés ʻводяное отоплениеʼ ( melegvíz ʻгорячая водаʼ + fű tés ʻ отгл. сущ. отопление; топкаʼ); kö töttá rú-keres kedés ʻмагазин трикотажных изделийʼ ( kö töttárú ʻтрикотаж, трикотажные изделияʼ + ke res-kedés ʻторговля; магазинʼ); vonat-összeköt-te tés ʻжелезнодорожное сообщениеʼ ( vonat ʻпоезд; эшелонʼ + összeköttetés ʻ отгл. сущ. связь, контакт, сношение’); nyereség-visszatérítés ʻвозмещение прибылиʼ ( nyereség ʻприбыль; выигрышʼ + vissza-térítés ʻ отгл. сущ . возврат, возвращение, возмещениеʼ) и др.;
-ó/-ő (15 примеров, 13,21 % от числа сложных существительных с суффиксами): előa dó-művésznő ʻисполнительница, артисткаʼ (előadó ʻдокладчик, -ица; референт; лектор, преподаватель, -ица; исполнитель, -ицаʼ + művésznő ʻактриса; концертирующая пианистка (скрипачка); художница; женщина-скульпторʼ); előadó-művészet ʻисполнительское искусствоʼ (elő-adó ʻдокладчик, -ица; референт; лектор, преподаватель, -ица; исполнитель, -ицаʼ + művészet ʻискусство; мастерствоʼ); műkor-cso lyázó-bajnok ʻчемпион по фигурному катаниюʼ (műkorcsolyázó ʻфигурист, -каʼ + bajnok ʻчемпионʼ); lézersugár-le-tapogató ʻлазерный искатель / сканерʼ (lézersugár ʻлазерный лучʼ + letapogató ʻ1) прил. сканирующий; развертывающий; 2) сущ. сканер, сканирующее устройство; развертывающее устройствоʼ); kőolaj-finomító ʻнефтеперегонный заводʼ (kőolaj ʻнефтьʼ + finomító ʻрафинировочный (завод)ʼ); képviselő-választás ʻвыборы в палату депутатов / в парламентʼ (képviselő ʻдепутат; представитель, -ницаʼ + választás ʻвыбор; выборыʼ); járóbeteg-rendelő ʻамбулаторияʼ (járóbeteg ʻамбулаторный больнойʼ + rendelő ʻзаказчик; (врачебный) кабинет, приемная (врача)ʼ); mobiltelefon-előfizető ʻабонент мобильного/сотового телефонаʼ (mobiltelefon ʻмобильный телефон, сотовый телефонʼ + előfizető ʻподписчик, -ица; абонент, -каʼ); le-vélbé lyeg-gyűj tő ʻколлекционер почто- вых марок, филателистʼ (le vélbélyeg ʻпочтовая маркаʼ + gyűjtő ʻсборщик; собиратель, коллекционерʻ); óvó nőképző-intézet ʻпедучилище воспитателей дошкольных учрежденийʼ (óvó nőképző ʻвоспитатель дошкольных учрежденийʼ + in tézet ʻинститут; учреждение; (высшее) училищеʼ); nyelvvizsga-előkészítő ʻпод-готавливающийся к экзамену по языкуʼ (nyelvvizsga ʻэкзамен по (какому-л.) языкуʼ + előkészítő ʻподготовительный, приготовительныйʼ) и др.;
-ság/-ség (8 примеров, 7,55 % от числа композитов с суффиксами) : futball-vi lágbaj-nokság ʻчемпионат мира по футболуʼ ( futball ʻфутболʼ + világbajnokság ʻпервенство/ чемпионат мира, мировое первенствоʼ); Európa-bajnokság ʻчемпионат/первенство Европыʼ ( Európa ʻЕвропаʼ + bajnokság ʻпервенство, чемпионатʼ); jelzá loga dós-ság-levél ʻипотечное обязательствоʼ ( jelzá-logadósság ʻипотечная задолженностьʼ + levél ʻписьмо; свидетельствоʼ); műkorcso-lyázó-bajnokság ʻчемпионат по фигурному катаниюʼ ( műkorcsolyázó ʻфигурист, -каʼ + bajnokság ʻпервенство, чемпионатʼ); ví-vó-vi lágbajnokság ʻпервенство мира по фехтованиюʼ ( vívó ʻфехтовальщик, -ицаʼ + vi lágbajnokság ʻпервенство мираʼ); ököl-vívó-bajnokság ʻчемпионат по боксуʼ ( ököl-vívó ʻбоксерʼ + bajnokság ʻпервенство, чемпионатʼ); kényszer-mun kanélkü liség ʻвы-нужденная безработицаʼ ( kényszer ʻпонуж-дение, принуждение, давление’ + mun ka nél-kü liség ʻбезработицаʼ); ká bítószer-függőség ʻнаркотическая зависимость, наркоманияʼ ( ká bítószer ʻнаркотическое средство, нар-котикʼ + függőség ʻзависимость, подчиненное положениеʼ).
Заключение
Сложные слова составляют значительную долю словарного состава финноугорских языков. Словосложением называется образование цельнооформленных сложных слов на базе двух (или более) простых. Интенсивность использования в современном эрзянском и венгерском языках способов словообразования, позволяющих продуцировать слова со сложной структурой, и возросший интерес к сопоставительным исследованиям свидетель-
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ствуют о необходимости изучения данного явления с историко-сравнительных позиций.
Большинство ученых рассматривают сложное слово как обобщенную единицу деривации, представленную двумя типами: сложными слитными словами (включая сложно-аффиксальные слова и слова, образующиеся лексико-синтаксическим способом) и сложносоставными словами. В основе причин композитообразо-вания лежат как лингвистические, так и внеязыковые факторы. В отношении вопроса правописания композитов справедливо утверждение, что орфографисты лишь описывают традиционную норму в дескриптивных словарях, частично корректируют в нормативных словарях и в правилах, анализируют ее перспективы и движущие силы.
Классификация сложных слов в зависимости от частеречной принадлежности компонентов – явление распространенное. К некоторым языкам, например романским, она практически не применима. Однако финно-угорские языки дают богатый материал для такого анализа.
В эрзянском и венгерском языках сложные существительные представлены словами как сочинительного, так и подчинительного типа, причем словообразование первых – менее активный процесс. Соглас- но исследованию, проведенному в рамках данной статьи, первым компонентом сложного существительного сочинительного типа в эрзянском и венгерском языках чаще всего становится имя существительное (соответственно 89,29 и 81,25 %). Невелика в этом качестве доля имени прилагательного (1,79 и 9,09 %), причастия (2,68 % в эрзянском языке), местоимения (0,57 % в венгерском языке), имени числительного (1,14 % в венгерском языке). В ряде случаев установить происхождение первого компонента в рассматриваемых языках не представляется возможным. Сложные существительные сочинительного типа могут употребляться с суффиксами, причем доля подобных композитов в венгерском языке в 2,5 раза больше, чем в эрзянском.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ местоимение
мест. –
нареч. – отгл. сущ. – прил. – прич. – собир. – собир. сущ. – сущ. – тк. ед. –
тк. мн. –
уст. – этн. –
наречие отглагольное существительное прилагательное причастие собирательное слово собирательное существительное существительное только единственное число только множественное число устаревшее слово этническое
Поступила 21.05.2020, опубликована 26.10.2020
Список литературы Сложные существительные сочинительного типа в эрзянском и венгерском языках
- Алямкин Н. С. Структура определительных сложных существительных // Словообразовательная архитектоника в волжско-финских языках. Саранск, 1999. С. 105— 107.
- Бешенкова Е. В., Иванова О. Е. Проблемы нормы и кодификации правописания сложных существительных // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. 2014. № 1. С. 119-199. URL: https:// www.elibrary.ru/item.asp?id=21957790 (дата обращения: 15.07.2020).
- Важина Е. Н. Функциональный потенциал сложных имен существительных с признаковым компонентом в современном русском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2013. 25 с.
- Иванова Т. К. Композиты в словообразовательных гнездах русского и немецкого языков // Иностранные языки в современном мире: инфокоммуникационные технологии в контексте непрерывного языкового образования: сб. материалов VII Междунар. науч.-практ. конф., Казань, 26-27 июня 2014 г. Казань, 2014. С. 69-72. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=23806366 (дата обращения: 16.07.2020).
- Иванова Т. К. Сложное слово как элемент словообразовательной системы русского и немецкого языков // Ученые записки Казанского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2009. Т. 151, кн. 6. С. 143-151. URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=13017244 (дата обращения: 16.07.2020).
- Иванова Т. К. Функциональные особенности словообразования сложных имен существительных // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. С. 1266. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=22878558 (дата обращения: 17.07.2020).
- Келин М. А. Сложные слова в мордовских (мокша и эрзя) языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тарту, 1968. 22 с.
- Коваленко В. С. Сложные имена существительные в англоязычной и франкоязычной интернет-лексике // Вестник Челябинского государственного университета. 2019. № 1 (423). С. 81-85. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/slozhnye-imena-suschestvitelnye-v-angloyazychnoy-i-frankoyazychnoy-internet-leksike/viewer (дата обращения: 16.07.2020).
- Кубрякова Е. С. Что такое словообразование. Москва: Наука, 1965. 77 с.
- Кукушкина Е. А. Типология композитов в эрзянском и немецком языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саранск, 2007. 18 с.
- Майтинская К. Е. Венгерский язык. В 2 ч. Ч. 2. Грамматическое словообразование. Москва: Изд-во АН СССР, 1959. 228 с.
- Мосин М. В. Особенности образования сложных слов в эрзянском и финском языках (сравнительный анализ) // Мордовские языки: настоящее и будущее: сб. ст. и выступлений. Саранск, 2015. С. 31-36.
- Основы финно-угорского языкознания. Марийский, пермские и угорские языки. Москва: Наука, 1976. 464 с.
- Основы финно-угорского языкознания. Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. Москва: Наука, 1975. 348 с.
- Сабанова С. А. Способы и пути образования слов-слитков в английском и удмуртском языках (сопоставительный анализ) // Богатство финно-угорских народов: материалы V Междунар. фин-но-угор. студен. форума, Йошкар-Ола, 24-26 мая 2018 г. Йошкар-Ола, 2018. С. 149-152. URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=35626939 (дата обращения: 16.07.2020).
- Сулейбанова М. У. Словосложение как языковая универсалия в нахских и ино-структурных языках // Велес. 2017. № 10-2 (52). С. 93-97. URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=30521482 (дата обращения: 17.07.2020).
- Феоктистов А. П. Типы композит и их правописание в мордовских литературных языках // Словообразовательная архитектоника в волжско-финских языках. Саранск, 1999. С. 12-16.
- Polenz P. Synpleremik I: Wortbildung. Lexikon der germanischen Linquistik. Tübingen: Max Niemeyer, 1973. 372 p.
- Hegedüs R. Magyar nyelvtan: formák, funkciók, 0sszefüggések. Budapest: Tinta könyvkiad0, 2004. 335 p.
- Magyar grammatika / szerk. B. Keszler. Budapest: Müszaki Könyvkiad0, 2017. 573 p.