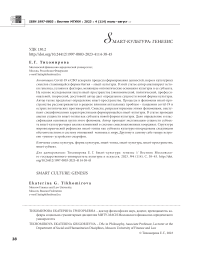Smart-культура: генезис
Автор: Тихомирова Е.Г.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (114), 2023 года.
Бесплатный доступ
Сovid 19 и СВО ускорили процессы формирования ценностей, норм и культурных смыслов становящейся формы бытия smart-культуры. В этой статье автор анализирует истоки генезиса, условия и факторы, меняющие онтологические основания культуры и ее субъекта. На основе исследования лакун smart пространства (экономической, политической, профессиональной, творческой, досуговой) автор дает определение сущности новой формы культуры. Автор также предлагает определение smart пространства. Процессы и феномены smart пространства рассматриваются в разрезе влияния актуальных проблем пандемии covid 19 и острых политических противоречий. Смыслы, репрезентируемые этими феноменами, выступают специфическими характеристиками формирующейся smart культуры. В статье проведен анализ сущности smart толпы как субъекта новой формы культуры. Дано определение и классификация основных групп этого феномена. Автор проводит экспликацию сущности субъекта smart культуры через анализ изменений в системе смысложизненных координат. Структура мировоззренческой рефлексии smart толпы как субъекта культуры опосредована следующим обстоятельством: в систему отношений человека к миру, Другому и самому себе теперь встроено «умное» устройство смартфон.
Культура, форма культуры, smart-толпа, smart-культура, smart-пространство, smart-субъект
Короткий адрес: https://sciup.org/144162866
IDR: 144162866 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-4114-38-45
Текст научной статьи Smart-культура: генезис
Идея данного исследования родилась во время работы над другой темой – темой маски. Одной из сфер, в которых проводился анализ формируемых человеком проекций Я, стали социальные сети. Со временем этот, казавшийся проходным, сюжет перерос сам себя вместе с глобальными изменениями тела культуры, привнесенными в него массовым распространением «умных» устройств. Художественно-литературные, кино-прогнозы и прогнозы философов-футурологов XX века о проигрыше человека в противостоянии машин и людей (обезличивании, тотальном контроле) теперь кажутся вполне реальными. И то, о чем пророчески писали К. Ясперс, Ж. Бодрийяр [12; 3], предупреждая о последствиях технизации социокультурного пространства, актуализировалось, встало в повседневных практиках рядом с каждым из нас.
Форма культуры изменилась, но как оценить происходящее: как разрушение ее или как новое (и лучшее) состояние? Рефлексия smart-культуры только началась, референтная исследовательская база формируется вместе с действительностью. Академическим сообществом представлены работы о некоторых явлениях и феноменах smart- культуры – о мемах («веселых картинках»), блогинге, лайках и зависимостях. Однако связующая воедино эти структуры культуры и их смыслы понятийная линия еще не проявилась. Мы с вами можем начать совместную рефлексию новой формы культурного бытия и ее субъекта.
Современная культура – эпоха перманентных изменений, связанных с новейшими технологиями. Персональные компьютеры уже считаются «древними», а на их место пришли мобильные «умные» устройства – смартфоны. При помощи этих устройств мы решаем множество задач: устанавливаем распорядок дня, следим за питанием, контролируем занятия спортом, устраиваем быт, делаем покупки, архивируем и транслируем события (фото, видео), занимаемся творчеством, отдыхаем, учимся, работаем.
Многое из перечисленного мы делаем по подсказкам этих «умных» устройств. Подсказки формируют нейросети – большие языковые модели (чат-бот GPT и его аналоги), встроенные в архитектуру программного обеспечения смартфонов, планшетов и пр. Эти модели – искусственные когнитивные агенты – предварительно обучены человеком и способны копировать алгоритмы мысли- тельных операций, «думать» вместо нас, освобождая драгоценное время.
Благодаря таким возможностям темп жизни неизмеримо возрос: скорость получения решений позволила человеку выполнять вместо нескольких задач – множество. Сэкономленные при помощи «умных» устройств издержки времени вложены в новое измерение бытия – вsmart-пространство.
Изменение темпа жизни повлекло за собой перемены в содержании значений временных затрат: человек сросся с условным смартфоном, поместил в него все имеющиеся смыслы жизни – любовь, прекрасное, знание, труд и отдых. Научное сообщество назвало этот процесс срастания человека и «умной» техники зависимостью [1]. Исследователи выделили ряд «симптомов»: постоянное ношение смартфона в руках, гонка за новыми моделями (как синтез ценности устройства и ценности Я), бесконечные переписки, звонки, просмотры почты, социальных сетей, ожидание одобрения сетевым сообществом («лайки»). Психологи приписали наличие «комплексов» этим «зависимым» от смартфонов людям – неумение общаться вживую, неумение решать проблемы вне «умного» устройства, наличие «тусклой» реальной жизни, одиночество [10]. Проблема зависимости от смартфона, озвученная учеными, нашла подтверждение в словах разработчиков программного обеспечения. Так, Лорен Бритчер, создавший технологию прокрутки новостной ленты, признался, что этот алгоритм аналогичен аппаратам казино («однорукий бандит»), провоцирующим игроманию [8]. Однако проблема вышла за рамки описываемых психологических патологий. Распространение коронавируса в 2020–2022 годах и острые межгосударственные военно-политические конфликты 2022 года сблизили человека с «умными» устройствами максимально, сделав их окном в мир. Люди обрели не столько зависимости, сколько изменившуюся реальность, особое состояние социокультурного пространства и себя в нем. Но является ли оно болезнью культуры или это ее новая форма?
Мировоззренческая рефлексия и smart-культура. Жизнедеятельность теперь не мыслится без «умных» устройств связи. Социокультурное пространство вслед за развитием техники и технологий стало тотальным smart-пространством, макрокосмом «в кармане», абсолютно измеряемым онтологическими категориями времени, сущности, формы и содержания, единого и многого, меры, качества и количества. Так, smart-пространство – специфическая форма бытия, данная через отношение «я – smart-устройство» в сложном единстве существующих в нем норм и ценностей, естественных и искусственных языков, порядков и объектов. Познающий субъект, «микрокосм», мыслящий эту новую форму бытия и себя в ней, породил новые продукты фундаментального вопрошания.
Особенностью рефлексирования отношений субъекта к «умному» пространству, Другому и Я стало то, что человек оказался заброшен одновременно во все формы осмысления; в smart-пространстве они смешаны, наслоены друг на друга: кто-то творит мифологии, иные творят культы и «богов», третьи конструируют рациональные структуры. И все эти мыслимые сюжеты складываются вокруг фундаментальных, вечных, касающихся универсума, Другого и Я. В рамках этой эклектичной рефлексии рождается smart-культура.
Что есть сущность и специфика smart-культуры? Под культурой вообще мы понимаем систему форм и видов деятельности по созданию образцов, правил и объектов, необходимых субъекту для творения гуманистического пространства. Гуманистическое пространство – совершенствуемое в ходе рефлексии и при помощи усилий человека единство внутреннего и внешнего мира. Smart-технологии определяют характер фундаментальной мировоззренческой рефлексии (отношений Я-Мир, Я-Другой, Я-Я) и специфику рефлексии самого smart-пространства, в котором между миром и человеком стоит смартфон [9]. Результатом этой рефлексии выступает smart-культура и ее продукты. Так, smart-культура – специфическая деятельностная система, в которой создание, распространение и сохранение культурных продуктов (идей, норм, ценностей, феноменов, стандартов поведения и пр.), необходимых для единства внутреннего и внешнего пространства, человек осуществляет с помощью smart-технологий.
Характер smart-культуры, определенный техническими условиями (наличием устройств и включенности в сеть интернет), вызывает сомнения в «человечности» smart-пространства. Не совершается ли ошибка при выходе на этот путь? Не ведет ли он к потере личного, индивидуального, творческого и «humanus» начал в новой культуре?
Smart-культура: профессиональные практики. В новой форме бытия культуры представлены процессы, явления и феномены как специализированных, так и текущих практик человека. Одни родились в smart-пространстве, другие начали переход вместе с появлением «умных» устройств. Невозможно представить себе профессиональную коммуникацию, обмен результатами, опытными данными без «умных» устройств.
Специфика становления smart-культуры для научной сферы проявилась в том, что многие исследования – опросы, наблюдения, эксперименты – проводятся при помощи смартфонов [5] и других «умных» устройств. Их технические характеристики позволяют подключаться к оборудованию (станкам, телескопам, микроскопам, видеокамерам, датчикам, турбинам), анализировать опытный материал в режиме безграничного времени (по желанию все время можно сделать рабочим!).
Период пандемии сovid-19 показал особую важность цифрового взаимодействия для сообщества ученых и студентов. Ограничения на общение лицом к лицу были преодолены в кратчайшие сроки: через месяц после введения первого карантина во многих странах обучение и запланированные конференции, симпозиумы прошли в «удаленном» формате и находились в тотально- дистанционном режиме два года. Те исследователи, реальные передвижения которых ранее были затруднены по другим обстоятельствам, смогли принять участие в научных мероприятиях благодаря распространенности «умных» устройств и «дистанционке».
В социуме до сих пор не существует единого мнения о ценности удаленной учебы и работы. Некоторым «дистанционка» позволила экономить время и деньги на передвижение к месту выполнения профессиональных обязанностей. Иные остались категорическими противниками экранного взаимодействия (эмоционального и показательного). Этот спор в нашей стране сейчас обрел особые оттенки смыслов в связи с санкционным давлением: ограничения послужили установке границ между нашими и зарубежными учеными [11]. То, что не смог сделать covid – прекратить научную коммуникацию, почти удалось сделать техническими и экономическими рестрикциями. Более того, мы все оказались свидетелями формирования нового, «санкционного» этикета и этической культуры.
Отдельного обсуждения заслуживает сюжет о трансформациях образования в smart-пространстве. Благодаря «умным» устройствам, открылись глобальные каналы связи между преподавательским и студенческим сообществом на университетских уровнях, стали возможными международные научноисследовательские проекты, коллаборации. Но базовый образовательный процесс перевести в smart-пространство качественно не вышло: учителя, преподаватели вузов, обучающиеся столкнулись со сложностями – разрозненностью платформ, скоростью передачи данных, ограниченностью серверов и даже с психологическими препятствиями. Комфортно чувствовали себя не все: участникам дистанционного обучения приходилось применять больше усилий для считывания паралингвистической информации – выражения лица, тембра голоса, скорости речи.
Преподаватели и обучающиеся, не ощущая присутствия друг друга, перестали по- лучать эмоционально-чувственное удовлетворение от труда. Так сращивание человека и «умных» устройств в профессиях, служащих экзистенции, формированию смыслов жизни, усугубило тенденцию дегуманизации (о чем пророчески предупреждал Ясперс [12]).
Распространение «умных» устройств повлияло и на экономическую сферу. Работа финансовых и правовых институтов многих стран ушла в smart-пространство: расчеты, обмен данными, ресурсами стали происходить без личного присутствия. В повседневной жизни люди получили в качестве феномена smart-культуры банковские приложения, обеспечивающие доступ к данным, возможность работать со счетами, оплачивать налоги, продукты и услуги. Только санкции, направленные против банковской системы РФ, притормозили этот процесс для всех участников экономической сферы.
Безналичный способ оплаты товаров – без ощущения денег в руке – обнажил одну из граней мировой проблемы – бесконтрольного потребления ресурсов. Иллюзия легкости покупок привела к экспансивному росту потребления, оно стало бездумным. Для того, чтобы купить что-то, не надо утруждаться [4]. С одной стороны, свобода доступа к товарам и услугам побудила производства к развитию, а с другой – обострила катастрофичные экологические последствия (проблемы утилизации отходов, рост свалок и проч.).
До сегодняшнего дня экономическая сфера казалась наиболее ярким выражением сущности идей мультикультурализма и глобализации в smart-пространстве – финансовые границы практически отсутствовали. Однако политическая ситуация 2022 года показала иллюзорность свободы и безграничности: проблемы обнаружились не столько в качестве «умных» инструментов или их помехозащищенности, сколько в самой идее глобализации. В международном плавильном котле не свершился синтез мировоззрений и культур. Отрицание разницы национальных смысложизненных координат привело к дестабилизации все- го smart-пространства, и если не отменило общечеловеческие экономические свободы, то отодвинуло возможность обладания ими на неопределенный срок. В систему smart-культуры вместе с санкциями 2022 года вошла политика.
Эта сфера деятельности подверглась наибольшей трансформации в современный период. Попытки государств регулировать взаимоотношения в ней пока не имеют успеха: законы, призванные пресекать политические противоречия, не работают в силу технических особенностей smart-пространства. Вся информация, выложенная в сеть, даже при наложении цензурных запретов, оставляет следы. Кроме того, фактором, препятствующим действию законов, является стихийность распространения информации: в smart-пространстве пока еще действует толпа, а не мыслящие субъекты.
Люди приходят в сообщества поглазеть, бросить критичный комментарий, зачастую – оскорбить оппонентов, зло посмеяться. Возрастная категория таких политических «наблюдателей» – подростки [6] и молодые люди, примерно, до 30 лет. Категория 40 лет и старше – малочисленна и высказывает свои политические суждения редко. Так, в smart-пространстве действует smart-толпа – стихийная группа людей, объединенная случайными связями; она не общество, структурированное, организованное общими целями. Они считают себя особенными только потому, что имеют доступ к информации (особенно авторитетным ресурсом среди них считается Википедия1) и право высказывания.
Новые люди в новом пространстве: smart-толпа. Появление «умной» толпы, безликого, вооруженного техникой человечества, предвещали многие философы – К. Ясперс, Х. Ортега-и-Гассет, Ж. Бодрийяр, Г. Рейнгольд. Г. Лебон, например, писал о свойствах этой массы – о нетерпимости,
-
1 Соучредитель Википедии Л. Сэнгер признал предвзятость и проблемность своего проекта (Эл. ресурс https://iarex.ru/news/75417.html Дата обращения 05.11.2022)
внушаемости, импульсивности [7]. Ясперс назвал толпу «единством несвязности» и указал на ее главное качество: отсутствие осознанного взаимодействия [12]. Бодрийяр, отыскивая суть «молчаливого большинства», маркировал его фальшь, симулирование социального и человеческого [2].
Действия явившейся в XXI веке массы осуществляются бессознательно-стихийно, а не ради совершенствования человеческого; ее эволюция только началась. Что делает нынешняя толпа в smart-пространстве? Реагирует на информационные раздражители (посты, комментарии, иллюстрации, аудио, видео), вирусно распространяя их. Источником мем-вирусов [3] становится любая единица информации.
Дифференцировать умную толпу можно по ее «именам» – сленговым лексемам, которыми обозначают себя эти обитатели smart-пространства: «кремлебот», «либераха», «по-ридж» (юные комментаторы, аналог более архаичной «школоты») и т. п. Политический кризис 2022 года породил еще две – «диванных аналитиков» и «военных стратегов». Появление этих лексем (и соответствующих им групп людей) вне smart-пространства невозможно представить: комментаторы находятся не в окопах, работая военкорами, а дома – со смартфонами в руках.
Снятое и записанное становится максимально публичным. Кулуарные действия МИДов и оборонных ведомств остались в далеком прошлом: все «вскрыто», зафиксировано, доработано и слито в сеть. Эти материалы активно распространяют и комментируют в социальных сообществах. «Диванные аналитики» пытаются выстроить логику событий и предложить решение проблемы. При этом мало кто из них, назначая себя экспертом, понимает сущность комментируемых событий.
Российско-украинский кризис предстал в яростном противостоянии smart-толпы. В ее отечественном сегменте сформировались три группы комментаторских реакций: поддерживающие внешнюю политику стра- ны, отрицающие и молчащие. Радикально настроенные (поддерживающие и отрицающие) вступают в споры с противником, применяя ненормативную лексику, мемы (так называемые «боевые картинки» – иллюстрации обсценного содержания), шок-контент (иллюстрации и видео со сценами убийств и насилия), аудио-контент. В ход идут ложные фото- и видео-изображения – обработанные, трансформированные под нужный участникам дискурс.
Третья – молчащая группа – люди, скудно использующие публичность smart-пространства. Их число, разграничивающих личное и публичное, значительно возросло. Эта часть аудитории укрепляет границы между внутренним и внешним миром, не высказывая мнений о происходящем. Максимумом реакции станет одобрительный лайк. Молчаливая экономия на самом деле является стратегией, распространяющей скупость не только на слова, но и на эмоции.
«Эксперты» и «профессионалы». Свободный и моментальный доступ к информации стал причиной появления еще одного элемента smart-толпы – «экспертов» политики, экономики, науки, искусства, межличностных отношений, религии и спорта. «Экспертные» мнения встречаются теперь под любой публикацией и высказанным в сети мнением.
Так, появились «журналиствующие» – люди, подающие и толкующие информацию по собственной инициативе. Изобилие каналов блогеров привело к проблеме обесценивания профессионального знания и опыта: толпа стала информационным «экспертом», а автор-исследователь умер. Каждый теперь может дать репортаж с места событий с фото и видео, каждый может высказать мнение о событии, каждый может истолковать контекст. С одной стороны, это дало свободу и безграничность слова, с другой – нивелировало ценность и качество его смысла.
В толпе растворились не только журналисты, но и писатели. Ранее вне smart-пространства мастер художественного слова проходил сложный путь от замысла, создания рукописи, работы с редакторами, издателями к конечному продукту своего труда – книге. Эти тернии исчезли: у любого есть возможность выложить на всеобщее обозрение «прозу» и «поэзию». Smart-пространство пополнилось тысячами «великих» писателей-новеллистов – мопассанами, саган, пишущими «рассказы» о предательстве, любви, воспитании или путешествиях. Клиповость, калейдоскопичность «малобуквенных» текстов пресытила толпу, а писатель-личность исчез.
Такая же беда безликости и «псевдоэкс-пертности» настигла музыкантов, художников, дизайнеров. Предоставленные программистами и инженерами человеку приложения к базовым программам смартфонов, с одной стороны, расширили границы творчества, с другой стороны – сузили: в день публикуются миллионы фотографий, музыкальных записей, коллажей, рисунков, проектов. Среди всех этих продуктов адресатам творческих актов сложно отыскать то, что может быть профессионально ценно. Само понятие художественной ценности оказалось размытым: прежние шкалы престали действовать, а новые не прояснились.
В smart-пространстве появилась толпа «творцов» и «публика», исключившие личное из своих интересов: настоящий человек, с переживаниями, драмой перестал быть нужен создателям мемов, блогерам и интернет-селебрити.
В smart-пространстве теперь нет ресурса для производства качественных смыслов; чем больше качества и смыслов, тем меньше спрос. Критика без смыслов, перепроизводство смыслов погасили запросы на них. Из-за этого в smart-пространстве проявилось ощущение потери истины. Этот кризис стал глобальным мировым кризисом доверия. Так, из псевдомнений и псевдоэкспертиз возникла ткань фикций культурных смыслов с неразборчивым рисунком.
Новая надежда. В smart-культуре получила развитие досуговая сфера. Появляются видео-руководства по кулинарии, авторские мастер-классы по рыбалке, прямые эфиры по садоводству, рукоделию, шитью. Через смартфон можно получить инструкции обо всем, включая материнство, отцовство, партнерские взаимоотношения, починку забора, изготовление варенья и оказание первой медицинской помощи. Может быть, здесь и находится мера человеческого? Нет, smart-толпа пока играет в гуманизм, ставя в качестве основной цели не совершенствование человеческого, а публичность и монетизацию красиво снятых на камеру «семейных ценностей».
До режимов «самоизоляции» и экономических санкций – актуальных экзистенциальных потрясений – система культурных доминант находилась в инерции, размываясь ad marginem играющей «умными» устройствами толпой. Нормы и принципы «бессмартфонных» поколений отодвигались в сторону и, порой, жестоко высмеивались. Однако Covid-19 (2020–2022 годы) и СВО дали резкий старт коренным изменениям уже не только для «умных» техники и технологий, но для всего бытия культуры.
Человек теперь не простой «пользователь» цифровых устройств. Он субъект smart-культуры, инициатор формирования иной – «умной» – картины мира и других жизненных смыслов, создающий новые ценности и нормы бытия в правовом, политическом, экономическом, эстетическом и этическом измерениях.
Итак, творение «души» и «тела» smart-культуры переживает генезис. Мы включены в него и как исследователи (научное сообщество), и как непосредственные участники. Как ученые, мы ищем детали, составляющие архитектуру smart-культуры – ее сущность и многообразные феномены. Будучи участниками, совершенствуем быт, коммуникативные, профессиональные и другие практики. Качество исполнения этих ролей зависит от осознания ответственности за перспективы взаимодействия субъекта и техники: понимающего человека «умные» устройства поведут вперед, а непонимающего – потащат.
Список литературы Smart-культура: генезис
- Алтер А. Не оторваться! Почему наш мозг любит все новое и так ли это хорошо в эпоху Интернета. / пер. с англ. Т. О. Новиковой. Москва: Эксмо, 2019. 352 с.
- Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. / пер. с фр. Н. В. Суслова. Екатеринбург: Editions DENOEL, 2000. 96 с.
- Броуди Р. Психические вирусы. Как программируют ваше сознание. / пер. с англ. Л.Афанасьевой. Москва: Поколение, 2006. 304 с.
- Бузмакова М. В. Неконтролируемое потребление как следствие увеличения нормы свободного времени. // Региональная экономика: теория и практика. 2017. Т. 15, выпуск 5. C. 992-998.
- Кед А. П., Агеева П. М. Интернет-опрос как метод социологического исследования. // Проблемы современной экономики (Новосибирск). 2015. № 27, C. 112-116.
- Кибербуллинг: масштаб проблемы в России. Аналитический обзор. [Электронный ресурс]. // ВЦИОМ. 06.07.2021: URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kiberbuIling-masshtab-problemy-v-rossii
- Лебон Г. Психология народов и масс. / пер. с фр. А. Фридмана и Э. Пименовой. Москва: Социум, 2016. 384 с.
- Наш мозг не может оторваться от гаджетов - И это не просто случайность. [Электронный ресурс]. // Border. 13.01.2022 URL: https://jborder.ru/stati/nash-mozg-ne-mozhet-otorvatsya-ot-gadzhetov-i-eto-ne-prosto-sluchajnost/
- Тихомирова Е. Г. Идея маски и ее смыслы в культуре Новейшего времени. Ростов-на-Дону: изд-во Ростовского государственного строительного университета, 2014. 191 с.
- Шейнов В. П. Связи зависимости от смартфона с состояниями и свойствами личности // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. 2020. № 4. С. 120-127.
- Шугуров М. В., Серебряков А. А., Печатное Ю. В. Международное научно-исследовательское сотрудничество России в условиях масштабирования санкций: характеристика институциональных взрывов. // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. Выпуск 4-3 (67). С. 235-242.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. / пер. с нем. М.Левина. Москва: Политиздат, 1991. 527 с.