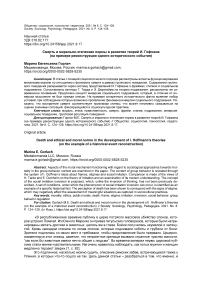Смерть и морально-этические нормы в развитие теорий И. Гофмана (на примере реконструкции одного исторического события)
Автор: Горлач Марина Евгеньевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 8, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье с позиций социологического подхода рассмотрены аспекты функционирования механизма морали по отношению к феномену смерти в рамках группового поведения. Содержание группового поведения раскрывается через систему представлений И. Гофмана о фреймах, стигмах и социальном подражании. Сопоставлены взгляды Г. Тарда и Э. Дюркгейма на теорию подражания, рассмотрено ее современное понимание. Предложен концепт инверсии социального подражания, который, в отличие от инверсии мышления не был прежде описан. На примере конкретного исторического факта выявлен набор условий, при соблюдении которых возможно проявление феномена инверсии социального подражания. Показано, что восприятие смерти соответствует признакам стигмы, что может негативно сказываться на оценке значимых ситуаций, фиксирующейся в социокультурной практике.
Мораль, этика, нравственность, смерть, фрейм, стигма, подражание, инверсия, социальное поведение, групповая регуляция поведения
Короткий адрес: https://sciup.org/149137132
IDR: 149137132 | УДК: 316.62:177 | DOI: 10.24158/spp.2021.8.17
Текст научной статьи Смерть и морально-этические нормы в развитие теорий И. Гофмана (на примере реконструкции одного исторического события)
Медиакоманда, Москва, Россия, ,
,
«В республиканские времена публику в цирке потрясло массовое убийство слонов, которое устроил Помпей. Из Южного Марокко он привез гетульских головорезов, которые были натренированы метать дротики в животных, целясь им в глаза. Бойня получилась неумелой и затянутой. Кровь каскадом стекала по ногам слонов, которые поднимали хоботы и трубили от боли. Зрители поднялись со своих мест и требовали, чтобы представление было прервано. Цицерон, комментируя этот эпизод, заметил, что неприятное зрелище вызвало странное чувство жалости, “как если бы животные имели нечто общее с людьми”. Во времена империи нервы цирковой публики стали менее чувствительными. Им очень нравилось наблюдать, как голых мужчин и женщин медленно терзают звери» [1, с. 82].
Это подлинное, насколько можно судить, описание римских забав, встречающееся также у Плиния, в которых что-то пошло не так. Цель данной статьи – разобраться в том, что именно, и понять, как функционирует в нас механизм морали по отношению к феномену смерти с социологической точки зрения. В приведенном примере в первую очередь нас заботят не слоны, а поведение людей, пришедших смотреть на представление, где планировалось массовое убийство животных, а затем изменивших свое поведение на противоположное. Организаторы самого мероприятия, конечно, достойны всяческого порицания с высоты нашей развитой культуры и сознательного поддержания гуманистических ценностей, но здесь их роль куда менее значима, чем роль публики, «головорезов» и самих слонов.
В конце концов, кто не восхищался Джулией Робертс в фильме «Красотка», демонстрировавшей способность сохранять внутреннюю гордость, продав верность за деньги, ее достойные. Не этот ли принцип в настоящее время повсеместно призван монетизировать нравственность? Однако вернемся к первому историческому примеру и коротко обозначим социоисторический контекст. «Головорезы», которых Помпей привез из Марокко – люди, никогда до этого не имевшие возможности охотиться на слонов, поскольку на тот момент характер взаимоотношения берберов с этими животными был совсем иной (лишь обучение одомашненных). Диких представителей уже не осталось, а полностью этот вид слонов вымрет уже в ближайшие два столетия. Описания поведения животных говорят о том, что их можно было сопоставить с человеком: «Доподлинно известно, что один слон, не способный от природы быстро усваивать то, чему его учили и за свою несообразительность часто подвергавшийся наказанию плетьми, был застигнут ночью повторяющим урок» [2]. Это племя берберов не обладало опытом охоты на слонов, к чему их принуждали забавы Помпея. Как отмечается в истории, их основными занятиями было коневодство и добыча пурпура. «Ни в Африке, ни в Азии тогда не было племён, специально охотившихся на слонов» [3, с. 152–159].
Моральная система обывателей допускала использовать жестокое обращение с животными как развлечение, но как могло случиться, что групповая регуляция поведения привела к тому, что они стали на сторону жертв? Ответ на этот вопрос дает современное понимание теории социального подражания. Вообще «у взрослого (подражание) представляет собой попытку установить первый “содержательный” контакт» [4, с. 247–248]. Это явление также связано с идентификацией человеком себя с какой-либо стороной в значимой для него ситуации, а также служит способом научения в определенных видах деятельности.
Некоторые попытки увязать социальное подражание с философским подходом не кажутся перспективным направлением. В философии есть развитая категория «идеального» ∗ и «идеальных образов». Подобная путаница указывает на недостаток современного понимания значения подражания некоторыми учеными, рассматривающими это явление только как связь с идеальным, как онтологический и историко-культурный феномен [5]. Стремясь дистанцироваться от порицаемого «психологизма», можно упустить ситуативные факторы влияния идеальных образов и подражания в целом на социальные явления.
Подражание как специфический закон социологического контента понимается Г. Тардом именно таким образом: «В области социальных явлений нам приходится иметь дело – и это составляет исключительную привилегию этой области – с непосредственными причинами, с индивидуальными поступками, представляющими факты, совершаемые человеком, что абсолютно недоступно нашим взорам во всякой другой области» [7, с. 6]. Излагая концепцию Тарда, А.В. Загребина замечает, что в его подходе «законы подражания объясняют, почему низшие слои общества подражают высшим, отдельные индивиды подражают авторитетным личностям, моде и т. д.» [8].
Э. Дюркгейм был оппонентом Тарда в научных дискуссиях по этому поводу, но именно ему принадлежит авторство развития идеи подражания:
-
1. «Внутри одной и той же социальной группы, все элементы которой подчинены действию одной и той же причины или ряда сходных причин, наблюдается некоторого рода нивелировка сознания, в силу чего все думают и чувствуют в унисон».
-
2. «То же самое название дается заложенной в человеке потребности приводить себя в состояние гармонии с окружающим его обществом и с этой целью усваивать тот образ мыслей и действий, который в этом обществе является общепризнанным».
-
3. «Наконец, может случиться, что мы воспроизводим поступок, совершившийся у нас на глазах или дошедший до нашего сведения только потому, что он случился в нашем присутствии или доведен до нашего сведения.... Мы зеваем, смеемся, плачем именно потому, что мы видим, как другие зевают, смеются, плачут. Таким же образом мысль об убийстве проникает иногда из одного сознания в другое. Перед нами подражание ради подражания» [9, с. 108–110].
Принципы подражания, изложенные Дюркгеймом, содержат три группы факторов, которые, запуская механизм подражания, служат разным целям. Для более четкого определения их сути, обозначим их как синхронизацию, социализацию, повторение. В рассматриваемой исторической ситуации, синхронизация выполняла роль механизма объединения эмоциональной реакцией группы зрителей, действующей в едином порыве. Дюркгейм в различных примерах называет ее «эмоциональным заражением». Впоследствии это понятие было легитимизовано [10, с. 101] в социальных науках и уточнено многими авторами.
Рассматриваемая нами ситуация интересна тем, что дает представление о подражании как более глубоком феномене. Предвосхищая удовольствие от убийства слонов на арене, публика настраивалась на ассоциацию себя с бесстрашными гетулами. Идеологической подоплекой циркового представления, которую не мог не учитывать Помпей, было избавление римлян от страхов, которые эти животные в боевых построениях воинов Карфагена повсеместно вызывали в римских легионах. Социальное подражание здесь планировалось как внутренний, эмоциональный повод избавления как от объекта страхов, так и от самого этого деструктивного чувства. При столкновении с реалией подобная ассоциация оказалась невозможной. В моделях для подражания человек ищет признаки качеств, превосходящих его собственные. Они должны быть примером: опытные, обладающие высоким социальным статусом, профессионалы дела. «Общество организовано на принципе, что любой индивид, обладающий определенными социальными характеристиками, имеет моральное право ожидать от других соответствующего обхождения и оценки. С этим принципом связан и второй, а именно, что индивид, который скрыто или явно сигнализирует другим о наличии у него определенных социальных характеристик, обязан и в самом деле быть тем, кем он себя провозглашает» [11, с. 44-45].
Забегая вперед, скажем, что причина, которая объясняет поведение толп в поздние времена Римской империи, столь отличное от этого, также была объяснена Ирвингом Гофманом в другой его теории - теории фреймов [12].
Несмотря на то, что все три теории, которые Гофман разрабатывал в различные периоды своей жизни, и им самим, и исследователями его творчества рассматривались изолированно; именно система представлений о фреймах, стигмах и социальном подражании раскрывает всю полноту группового поведения. «Деятельность, находящаяся в определенном фрейме, - особенно коллективно организованная социальная деятельность - часто выделяется из непрерывного потока окружающих событий специальным набором пограничных знаков или некими условными скобками» [13, с. 325]. «Скобки» в имперской реальности отделяли императора и патрициев от остальных граждан (клиентов) как самый высокий нормативный образец, тому же служили долгие годы идеологической обработки привилегированных классов, направленной на воспитание у них чувства исключительности и снижение для них значения жизней плебеев и рабов. Фрейм Гофман понимал как ключ к интерпретации события. Выход из обусловленности этой интерпретации возможен в нисходящем * или восходящем" переключении.
Фрейм в имперских развлечениях, как утверждает Гарольд Николсон, позже уже не преодолевался. А на этом событии, когда публика оказалась разочарована в возможности ассоциировать себя с профессиональными и смелыми охотниками, которых желала оценить в деле, она увидела то, что сулило нисходящее переключение - неумелых крестьян, к тому же рабов, издевающихся над величественными и благородными животными, чей интеллект вряд ли значительно уступал интеллекту мучителей.
В этом случае мы имеем дело с феноменом инверсии социального подражания, который в отличие от инверсии мышления не был прежде описан. То, что в данном случае мы не имеем дело с инверсией мышления, доказывает коллективный характер изменения поведения. Подражание является досознательным феноменом и, как структура, не может апеллировать к религиозному сознанию, которое в своей христианской, гуманистической направленности возникает почти на век позже. Свести инверсию к эмоциональному заражению также не получится, если мы доверяем оценке ситуации Цицероном. Для возможности такой инверсии, которую рассматриваем мы, было необходимо стечение нескольких условий: высокая эмоциональная значимость ситуации (смерть), особенности социализации публики (приобщенность к процессу выработки социальных норм, которая была актуальна только при республиканском строе и невообразима в тоталитарном), утрата доверия к объекту подражания (дезавуирование профессионализма акторов).
По мнению И. Гофмана, «... инстинкт самосохранения слабее укореняется в человеческом сознании, чем основы нравственности, ибо под действием одних и тех же сил первый оказывается менее способным к сопротивлению» [14, с. 119-120]. Но даже нравственность пасует, когда сталкивается с угрозой индивидуальному существованию, и тогда на первое место выходит социальная практика поведения, которая начинает регулироваться интегративной суммой индивидуальных моральных систем*** и индивидуальной этикой поведения в ходе приспособления к ним. Это, а еще склонность человека к синтетической оценке значимых ситуаций, фиксируемой в социокультурной практике в виде примет, суеверий, традиций, заставляет нас абстрагироваться от чужой смерти как очевидной угрозы (заболеть смертью) и действовать согласно принятой практике, которая, возможно, сможет нас защитить. В рассматриваемой же ситуации сработал иной механизм, когда люди начали ассоциировать себя с жертвами неумелого и кровавого убийства. Механизм, направленный на поиск другого объекта социального подражания.
Третья теория Гофмана посвящена такому отношению к окружающему, которое изначально содержит негативную пресуппозицию. Она носит название стигмы. Ее определение заключается в наличии признаков неблагополучия, ущербности, нежелательности. Близость смерти не входит в три вида, перечисленных Гофманом ∗ , однако к настоящему времени объем понятия расширен ∗∗ . «...Смерть сама по себе и считается явлением неизбежным, однако плохим, пугающим. Возмездия, наказания заслуживает даже не условный “убийца”, а сама смерть» [17, с. 13]. По замечанию Кюблер-Росс, даже врачей-профессионалов коснулась проблема, указывающая на восприятие смерти как стигмы: «По приблизительным оценкам, при запросе разрешения на беседу с пациентом девять из десяти лечащих врачей реагировали с беспокойством, раздражением, проявляли явную или скрытую враждебность. Некоторые из ни х, оправдывая нежелание сотрудничать, указывали на плохое физическое состояние пациента, его психологическую неустойчивость. Другие же отрицали факт, что на их попечении находится умирающий больной» [18, с. 353].
А между тем на профессиональную реакцию ориентируются родственники и близкие больного, призванные облегчить его последние минуты. «Если общество ослабляет контроль, возникает состояние аномии как недостаток веры в ценности или цели общества, утрата нормативных и нравственных рамок, регулирующих коллективную и индивидуальную жизнь. Это может привести к индивидуальным действиям, не соответствующим определяемым культурой целям» [19, с. 124–125]. Если же утрачен не контроль, а авторитет профессионала, то возможна инверсия подражания, последствия которой могут регулироваться не генерализацией нравственных ориентиров, как в рассмотренном историческом примере, а отторжением всего, касающегося смерти, – стигмой, особенно тяжело переживаемой на последнем этапе жизни.
Список литературы Смерть и морально-этические нормы в развитие теорий И. Гофмана (на примере реконструкции одного исторического события)
- Nicolson H. Good Behaviour. L., 1955. 330 p.
- Плиний Старший. Естественная история. Книга восьмая [Электронный ресурс] // Библиотека Annales. URL: http://an-nales.info/ant_lit/plinius/08.htm (дата обращения: 01.08.2021).
- Мащенко Е. Слоны и люди: драматическая история сосуществования // Наука и жизнь. 2009. № 12. С. 152–160.
- Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко ; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1985. 431 с.
- Александровская В.Н. «Социальное подражание» и «идеальный образ»: психологическая проблема в междисциплинарном исследовании // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 5 (42). С. 203–207.
- Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия : в 5 т. М., 1962. Т. 2. С. 219–227.
- Тард Г. Законы подражания. М., 2011. 304 с.
- Загребина А.В. Теория Г. Тарда в контексте французской социологии второй половины XIX века // Социологические исследования. 2011. № 8 (328). С. 38–47.
- Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 2018. 448 с.
- Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко ; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1985. 431 с.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. 304 с.
- Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. М., 2003. 752 с.
- Там же. С. 325.
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. 304 с.
- Там же. С. 298.
- Goffman E. Stigma. L., 1963. 183 p.
- Кюблер-Росс Э. О смерти и умирании. М., 2021. 416 с.
- Там же. С. 353.
- Шаталова Н.И., Жеманов Я.Н. Механизмы профессиональной социализации личности // Дискуссия. 2013. № 1 (31). С. 124–131.
- Финзен А. Психоз и стигма. М., 2001. 216 с.