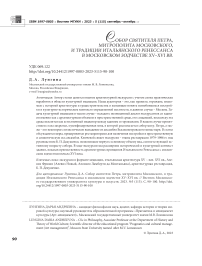Собор святителя Петра, митрополита Московского, и традиции итальянского ренессанса в московском зодчестве XV-XVI вв
Автор: Лунгина Д.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Эстетика и художественная культура
Статья в выпуске: 5 (115), 2023 года.
Бесплатный доступ
Автор статьи делится опытом архитектурной экскурсии с учетом своих практических наработок в области культурной медиации. Наша аудитория это, как правило, горожане, знакомые с историей архитектуры и градостроительства и желающие понять полюбившиеся постройки в культурно историческом контексте определенной местности, в данном случае Москвы. Задача культурной медиации в таком случае наладить полноценный диалог экскурсантов со зданием именно как с архитектурным объемом в пространственной среде, его создавшей, поскольку эта среда мыслится как естественный медиатор между зданием и горожанами. В нашем случае препятствием стала закрытая, музеефицированная зона, в которой располагается собор митр. Петра, а так же его некоторое стилистическое выпадение из ансамбля Высокопетровского монастыря. В статье обсуждаются меры, предпринятые реставраторами для включения постройки в пространственную и семиотическую ось ансамбля. Ключевой сюжет экскурсии этапы реставрации 1979 1986 гг. под руководством Б. П. Дедушенко, позволившие вернуть основному объему вид, соответствующий истинному возрасту собора. В ходе экскурсии мы расширяем исторический и культурный контекст здания, показав преемственность архитектурных принципов Итальянского Ренессанса с московским зодчеством начала XVI века.
Экскурсия в формате медиации, итальянская архитектура XV - нач. XVI вв., Але-виз Фрязин (Алевиз Новый, Алоизио Ламберти да Монтаньяна), архитектурная реставрация, Б. П. Дедушенко
Короткий адрес: https://sciup.org/144162966
IDR: 144162966 | УДК: 069.122 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-5115-90-100
Текст научной статьи Собор святителя Петра, митрополита Московского, и традиции итальянского ренессанса в московском зодчестве XV-XVI вв
В архитектурной экскурсии по местам, давно знакомым, мы пытаемся понять здания исходя из закономерностей жилой среды, являющейся нашим естественным путеводителем. Мы идем по улице, дома нас, соответственно, ведут. Помня, что архитектура, в отличие от произведений изобразительного искусства, определяется материалом и корпус постройки в некотором смысле коррелирует с нашим физическим обликом, мы опираемся на принцип: взаимодействуем со зданием мы также телесно. Это взаимодействие – сущность зодчества и происходит прежде, чем здание начнет строиться. Задача экскурсовода-медиатора – дать слово этому взаимодействию, облекая пространственную среду в нарратив, который позволил бы ей коммуницировать не объемами, а понятными слушателям средствами. Сообщение архитектуры должно стать для них не «онемелой музыкой», вопреки Гете и Шеллингу, а речью, разборчивой для всех участников коммуникации.
Пространственная среда звучит, когда она акцентирована композиционно. Как музыкальным произведением зовется не то, что записано нотами, а то, что связано началом, кульминацией, финалом, выражено размером, тактом, ритмом и т. п., так и здание мы воспринимаем, всматриваясь в перетекающие друг в друга низ и верх, правую и левую стороны, любуясь равновесием ширины и высоты, соотносясь с масштабом и пропорциями, улавливая ритм и отмечая нюансы. Отчасти этим ведает конструктивно-тектоническая сторона постройки, отчасти – ее пространственная композиция. В беседе со специалистами медиатор назвал бы их речевыми актами пространственной среды. В нашей практике мы встречали идеальные случаи взаимодействия здания со средой (как, например, храм Покрова на Нерли, вилла Ротонда близ Виченцы) и переклички между ее элементами (ансамблевые решения Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, монастырского комплекса Сантиссима Аннунциата во Флоренции и др.). Оптимальным для культурной медиации случаем является не искусственная или музеефицированная зона, а жилая среда, обжитая поколениями или сохранившая исторический контекст.
Поскольку наш сегодняшний «рассказчик» не соответствует этим условиям, медиацию предложено вести в другом направлении. Обозначим его чуть позже. Собор митр. Петра, действительно, выпадает из ансамбля Высокопетровского монастыря. Сооруженный между 1512 (Л. А. Беляев отодвинул начало постройки на два года назад от общепринятой даты [1; 2, с. 112]) и 1517 гг., в XVII – первой половине XVIII века, окруженный постройками нарышкинской и позднейших эпох и примерно тогда же несколько раз перестроенный в этой стилистике, собор митр. Петра тем не менее стоит свободно и интересен своей особостью и статью.
Несколько лет назад для включения в историческую перспективу на его фасадах восстановили декор первой трети XVIII века. Росписи вокруг повторно растесанных стен октаконха были сделаны в 1720–30-е годы, вокруг стен восьмерика – в 1736. Диссонанс, внесенный в ренессансный объем «акантовыми вавилонами», обсуждается и сегодня. Ставят вопрос и о том, насколько собор, не связанный с остальными постройками единой визуальной пространственной осью, заново встроился в виртуальную, семиотическую ось монастырского ансамбля. Петр, имя которого носило несколько лиц, ученик Иисуса, став- ший апостолом, митрополит Киевский, первый церковный иерарх, который с 1325 года имел постоянную резиденцию в Москве. Наконец, Петр – русский царевич, а затем царь и император, чье, можно сказать, второе рождение отмечено еще несколькими храмами поблизости. Это имя создает перекличку между всеми участниками ансамбля. Стоящая напротив нашего «рассказчика» церковь, посвященная иконе Толгской Божией Матери (ее празднование отмечается 8 августа по старому стилю), служит напоминанием об августовском дне 1682 г., когда Петр с матерью Натальей Кирилловной укрылись от восставших стрельцов в стенах Троице-Сергиевой Лавры. К югу от нашего «рассказчика» расположилась церковь 1694 года, также построенная в память о прп. Сергии Радонежском. В церкви в честь Боголюбской иконы Божией Матери (1684) к северу от собора митр. Петра упокоились двое дядьев юного царя, убитых стрельцами, – Иван и Афанасий Кирилловичи. Наконец, еще одно звено виртуальной оси, расположенное в южном дворе монастыря, – церковь в честь св. апостолов Петра и Павла.
Возвращение растесанным в XVII– XVIII вв. окнам первоначальной щелевидной формы при реставрации 1970–1980-х гг. и затушевка барочного декора превратили прямой указатель на тезоименитого святого царя в косвенный. Зато однотонная терракотовая окраска сделала прозрачней отсылку к итальянской архитектуре, а подчеркнутый цветом столпообразный объем – не только к его прототипам XV века, но и к нерукотворной вертикали холма Яникул, где, согласно поздней легенде, встретил свою смерть апостол Петр и где в 1502 в г. Браманте возвел Темпьетто (см. ниже).
Сегодня мы уже не воспринимаем окрестности монастыря как естественную для себя обстановку. Хотя еще в 1950-е годы в палатах Кирилла Полуэктовича Нарышкина обитали жильцы коммунальных квартир, где раньше было кладбище – расположился детский сад, а прочие монастырские субструк-ции, включая плиты со здешнего некрополя, использовались для нужд городского хозяйства вплоть до 1970-х годов. Этот опыт – в ином случае драматичный и интересный для медиации – оставим на другой раз. Наше ключевое событие сегодня – встреча с Итальянским Ренессансом, состоявшаяся благодаря работе Бориса Прокофьевича Дедушенко и его группы. А точнее – благодаря этапам реставрации 1979–1986 годов, позволившим установить истинный возраст собора и вернуть основному объему первоначальный вид.
Наша медиация, или работа культурно опосредованного зрения, сегодня будет, скорее, ретроспекцией в глубь веков, ведь другого доступа к Возрождению, кроме как через наш зрительский опыт, медиацией, строго говоря, не предусмотрено.
Между Венецией и Бахчисараем.Алоизио Ламберти да Монтаньяна
Алоизио из Монтаньяны (провинция Падуя, Венето; ум. на Руси не ранее 1531) – резчик, совершенствовавшийся у крупнейшего венецианского архитектора второй половины XV в. Мауро Кодуччи, оставил о себе на родине память лишь как автор скульптурных композиций. Самый полный на сегодняшний день перечень работ Алевиза, включающий надгробия, алтарные и фасадные группы (среди которых отделка декора венецианской Скуолы Гранде ди Сан-Марко; арх. П. Ломбардо, М. Ко-дуччи, 1488–1495), приводит в своем «Опыте словаря» С. С. Подъяпольский [11, с. 300].
Из нескольких приписываемых ему объектов, по видимости, далеких друг от друга и позволяющих полней оценить его дарование, следующие: мраморный портал Демир-капы (Железной двери) Бахчисарайского дворца хана Менгли-Гирея; фортификационный «Алевизов» ров, известный по реконструкциям и угадываемый лишь косвенно; декоративные элементы фасада Скуолы ди Сан-Марко и, наконец, кремлевский собор Архангела Михаила, сохранившийся в неполном строительном объеме. Два последних известны своей зрелищностью; они инициируют работу культурного зрения, поскольку, сопоставляя венецианскую и московскую архитектуру той эпохи, зрители самостоятельно смогут зафиксировать новшества в трактовке фасада, привнесенные Ренессансом.
Хотя Архангельский собор принадлежит типу palazzo in fortezza, зародившемуся в недрах романики, стена трактуется Алевизом по-новому. Архитектура домонгольского периода (например, Успенский собор во Владимире) учит нас, что фасад четверика в древнерусской архитектуре служит выявлению внутренней тектоники крестово-купольного храма. Нефы проступают наружу в виде прясел, стена выглядит как куртина, то есть как крепостное звено, а ее навершия – закомары естественно продолжают коробовые своды, также вынося их вовне.
У Алевиза по-другому, хотя в плане его постройка – традиционный византийский крестово-купольный храм, какие были популярны в Венеции. Однако экстерьер здания слабо связан с его конструкцией. Собор венчают не закомары, а дугообразные (лучковые) фронтоны, как у Мауро Кодуччи. В тимпаны Алевиз помещает белокаменные рельефные раковины также венецианского происхождения; фасад украшает акротериями (не сохранились). Прясла визуально превращает в филенки, образующие на плоскости фасада профилированный рисунок. И отделяет их друг от друга не лопатками, а ложными колоннами во весь ярус – пилястрами. Складывается впечатление, что и классический ордер, заново открытый Ренессансом, трактуется Алевизом не тектонически, а пластически, поскольку поддерживающие арки пилястры выглядят, будто приставленные к стене. Ведь венецианская архитектура в XV веке вбирала классику на свой манер, трактуя архитектурное наследие как оболочку, которую можно при желании обыграть или при случае совсем отставить. Так – в нашем случае – осталось незамеченным исчезновение целых пристроек к Архангельскому собору – наружных открытых галерей, чьи аркады поддерживали полуколонны тосканского ордера. Эти галереи первоначально примыкали ко всем стенам, кроме восточной, и были, очевидно, навеяны видом внутренних двориков итальянских палаццо.
Как мы взаимодействуем со зданием?
Собор митр. Петра, возведенный между 1512 и 1517 годами и не имеющий прототипов в московской архитектуре, привлекает внимание тем, что ему оставлено минимальное количество собственно русских черт. В отличие от Архангельского собора этот храм лишен каких-либо признаков адаптации к местным условиям. В соборе митр. Петра развиты идеи, свойственные ренессансной художественной культуре в самом широком смысле – как в географическом охвате от Милана до Тосканы, так и в хронологическом и содержательном, что позволяет трактовать Возрождение как синтез античного язычества и христианства.
Попытаемся прочитать его фасад как открытую книгу, в которую вписаны эти идеи. Как уже было замечено, здание не идет на нас фронтом стены, подобно древнерусским храмам, и не отсылает к традициям романской архитектуры, когда даже церкви имитировали крепость. Несмотря на дифференциацию объемов, его ярусы не противопоставляют себя друг другу, а образуют единство нижнего и верхнего восьмерика. Если бы мы зашли внутрь и подняли голову, то не смогли бы различить барабан и купол, то есть сферу, подчеркнуто покрывающую молящихся сверху. Хотя храм снаружи увенчан граненой шлемовидной главой, она не отражает тектонику здания, поскольку его верхний объем на самом деле образован естественным вырастанием стен, образующих сомкнутый свод. Не назовем мы, однако, такую композицию и высотной, так как здесь нет преобладания вертикалей над горизонталями и, соответственно, ощущения, что нас поднимает над поверхностью и уносит ввысь, как это делает готический собор.
Такая композиция называется центрической. Здание не имеет главного фасада и располагает к восприятию себя со «всех» сторон. Поэтому, и находясь вблизи, мы ощущаем себя «повсюду», то есть готовыми заглянуть за видимые части, чтобы увидеть скрытые. Хотя, перемещаясь, мы обнаруживаем, что стены имеют грани, то есть ограниченное количество наружных выступов. Это также не воспринимается как препятствие: собор уже вовлек нас в круговое движение, представив эту локомоцию как само собой разумеющуюся.
Это произошло благодаря конструкции нижнего столпа, состоящей из восьми изогнутых граней в форме дуг, или полуцилиндров. Полукупола, перекрывающие апсиды сверху, как мы помним, называются конхами. Отсюда название постройки – октаконх ; четыре больших «лепестка» расположены по странам света, четыре диагонально лежащих лепестка – между ними. Снизу дуги объединены цоколем, сверху – антаблементом. Это зрительно собирает здание, тем более что апсиды не слишком сильно вынесены в стороны от восьмерика. Поэтому храм воспринимается как единый объем и, предъявляя нам поставленные Ренессансом задачи, подсказывает не столько зрительные, сколько локо-моционные решения.
Выложенная белым искусственным камнем кольцевидная галерея должна была, казалось бы, стоять здесь изначально: центрическая композиция предполагает подиум, очерчивающий циркульное основание здания и приподнимающий его над землей. Однако реставрация привносит сюда обстоятельство, заставляющее нас, зрителей, считаться с тем, что главные пространственные категории (например, устремленность ввысь или приземистость), – всегда эффекты работы культурно нагруженного зрения и потому могут быть отрегулированы.
Высоченный культурный слой, наросший вокруг собора митр. Петра за пятьсот лет, до конца не исследован, поэтому нынешнюю круговую конструкцию правильней считать паллиативом. Неудачей считается и предыдущее решение, принятое еще Б. П. Дедушенко, когда для восстановления исходной высоты собора грунт понизили вокруг более чем на метр и собор оказался попросту в яме. И чтобы сгладить этот эффект и показать древний цоколь, раскрытый при реставрации, было решено строить галерею, берущую собор в кольцо, на расстоянии от стен. По признанию Л. А. Беляева: «Вот эта модель, которую придумал Борис Прокофьевич в 80-е <…> – все-таки не совсем удачная инвенция. Перед нами что-то такое несуразное, чего никогда, конечно, не было. Таким образом собор в своей нижней части никогда не выглядел» [12].
Нынешний белокаменный подиум скрывает следы старых ступеней, ведущих к собору и сделанных в виде рундуков. Их пристроили в 1624 году в том числе из старых камней и могильных плит (их упорядочением с 2000-х годов занимается Леонид Беляев). Там же можно обнаружить и следы первоначальной галереи, она появилась, как считал Б. П. Дедушенко, не ранее середины XVII века, а скорее всего – на рубеже XVII–XVIII веков. Из-за того, что земля вокруг храма по-прежнему таит в себе старинные захоронения, в ближайшее время не будет восстановлено и самое первое планировочное решение – самого Алевиза. Это были низкие открытые крыльца-площадки, располагавшиеся с трех сторон; их-то и заменили сводчатой галереей-папертью в ходе ремонта 1690-х годов и тогда же растесали узкие окна.
Как бы то ни было, сегодня взгляд издалека выделяет три объема: нижний («до колен»), средний («до пояса») и верхний. Если принять во внимание замысел Дедушенко о восстановлении высокого подиума (опираясь на обмеры Ивана Мичурина, сделанные в середине XVIII века, он доказывал, что высота галереи, построенной в 1690-х, была 1 м, что суммарно с метровым парапетом должно было визуально поднять нижний объем более, чем на 2 м [6, с. 167; 10]). Очевидно, что его реставрация стремилась уподобить пропорции храма пропорциям человеческого тела. Взгляд с галереи, то есть с близкого расстояния несколько меняет эти пропорции: конхи среднего объема превращаются в расправленные плечи, а верхний восьмерик, увенчанный граненым шлемовидным покрытием, становится гордо поднятой головой на длинной шее.
Центрическая композиция сообщает, что мы имеем дело с единым объемом, восприятие которого не должно разрушать его цельности. Напротив, она приглашает смотрящего подыграть ей со всех сторон. Поскольку, как мы заметили, у храма нет главного фасада и взаимодействуем мы не лицом к лицу, коммуницируем мы также преимущественно телесно. Приглашая сообразовываться с ней в движении, постройка задает нам совместную систему координат и встраивает в общий лад более высокого уровня.
Нечто подобное делает колонна и впоследствии круглая скульптура – ведущий в Античности вид пространственных искусств, который был – в логике Ренессанса – восстановлен в эпоху кватроченто. Отныне в сооружениях античная телесность сплавляется с христианской умозрительностью, книжными представлениями о мироздании. Этим синтезом открывается еще несколько каналов медиации.
Первый – повторно отсылает к античному мимесису (подражанию природе), когда человеческое тело бралось за точку отсчета для произведений искусства. Нас захватывает не только сбалансированность нашего локуто-ра, но и его подчеркнутая «распрямленность». Мы разделяем нашу природу – прямохождение, прямую осанку, служащую формой нашего тела – с телами, которые стремятся преодолеть свою неполноту, оформившись в скульптурный и архитектурный объем. Все, с чем мы контактируем, будь то природная вещь или искусственная, как-то оформлено; быть зримым (видным) значит демонстрировать волю к показательности. Ведь как человеку со-природно расти, вставать на ноги и распрямлять спину, так и для дерева (считали греческие мыслители) естественно слагаться в постройки, а для мрамора – в изваяния. И хотя материалу самому по себе это не подвластно и, чтобы растесаться до нужной формы, ему вначале требуется содействие «первозодчего» (arkhi-tekton), тот может поделиться со стро- ением лишь тем, что и так ежеминутно совершает в состоянии бодрствования, – сопротивлением силе тяжести. Ведь осанка – будем помнить – создана не материалом, а подъемом, усилием духа и воли, которое заставляет его держаться прямо.
Стройность собора – композиционный эффект, созданный и тектоникой, и дистанцией, нашим взглядом со стороны. Эту зрительную и, как оказалось, беспрецедентную активность пробудили в человеке иконный и вслед за ним картинный образ. Архитектурнопространственная среда, начиная с эпохи Ренессанса, – это отныне и зрительная среда, подчиняющаяся законам перспективных построений и прирастающая ракурсами, которые можно создать лишь мысленно и лишь отстраненным наблюдением. Даже педантично следуя заданным природой законам физического пространства, мы имеем возможность коммуницировать со зданием по, так сказать, второму каналу медиации – посредством зрения, привносящего смыслы и образы, которые не воспринимаются глазами непосредственно.
Поэтому к аспектам, которые мы уже подметили, – прежде всего, приглашающая к беседе статуарная человекосоразмерность здания, – прибавляются новые. Собор митр. Петра, прежде всего, легок. Конечно, в нем есть отсылка к античным прототипам – как, например, утопленному в землю греческому толосу – гробнице или святилищу, огороженному стенами, или не имеющему наоса моноп-теру или римской ротонде: чередование жизни и смерти, которое они олицетворяют, как бы против воли вовлекает нас в круговое движение природы. Этой плоскости противостоит активная устремленность постройки вдоль вертикальной оси, открывающая эсхатологическое измерение мироздания. Архитекторы называют такую композицию центральнокупольной, поскольку христианский храм (выросший, в том числе, и из ротондальных мартириев и баптистериев), симметричен не относительно точки, как многоугольник или круг, а относительно вертикальной оси, проходящей через вершину перекрытия. Наше взаимодействие задается и осью, чьим продолжением является небо, в которое, как на конечную цель, указывает наша голова, и дугообразностью объемов собора. Вертикаль придает ему легковесность, а шлемовидная глава на высокой шее сообщает некоторую эллипсоидность. И – в пределе – напоминает о самоподвижности, присущей шару.
Пространство, созданное шаром, воплощает абсолютную законченность. Поскольку, как мы знаем, «любое дополнение, привнесенное в сферу извне, привело бы к принципиальному изменению его структуры, лишило “чистоты” и цельности, отождествляемых с гармонией. Именно благодаря подобным качествам центрально-купольная композиция приобрела роль своеобразного символа эпохи Возрождения» [8, с. 39]. Соотносясь главами с собором, мы вспоминаем и о своем совершенстве. Что путь к совершенству пролегает через зрение, не устает напоминать Леонардо да Винчи: «Здание обязательно требует возможности обзора со всех сторон, дабы продемонстрировать свою истинную форму» (цит. по: [4, с. 18]).
Другой Рим
Борис Прокофьевич Дедушенко занимался раскопками Высокопетровского монастыря практически всю жизнь, с 1950-х годов. Что мысленно увидел он перед собой в конце 1970-х годов, после чего принял радикальное решение – «удревнить» храм почти на два века? Мечтал ли побороть устойчивое среди историков мнение, что данные летописей, называющих создателем собора Алевиза Нового, ошибочны? Или хотел избавить музейное сообщество от впечатления, которое было навязано последующими воспроизведениями октаконха в архитектуре голицынского барокко (типа храма Знамения в Дубровицах или Знамения в Перове), что собор Петра старше их ненамного? И решился восстановить ренессансную столпообразность храма, вернув растесанные окна к первоначальному узкому виду – причем так, чтобы получившиеся «бой- ницы» подчеркивали не столько древность исходника, сколько прямизну его осанки.
Среди возможных прототипов собора, наиболее близких по планировочным решениям, называют приписываемую Браманте (более достоверно – Антонио да Сангалло, одному из первых архитекторов собора св. Петра в Риме) церковь Санта-Мария делла Кон-соляционе в Тоди, Умбрия. Вспоминают и про ее возможный прообраз на рисунке Леонардо да Винчи, изображающем церковь с четырьмя экседрами, и церковь Санта-Мария прессо Сан-Сатиро (Милан), в работе над которой принимал участие Браманте. Из более далеких – обсуждают собор ап. Петра в Чериньоле (Апулия) с удлиненным нефом.
Отсылку к апостолу Петру Б. П. Дедушенко обязан был обозначить в любом случае. Москва должна была стать Третьим Римом как местом их зримо-пластической встречи. Ведь средневековая ментальность позволяла прославить апостола где угодно. Если язычники верили, что мировое древо, с которого вопит Дий (славянский Зевс), растет в соседней деревне, то почему, скажем, нельзя возвести Иерусалим недалеко от Москвы на Истре? Риму и вовсе подобало быть недалеко от Кремля, ведь после падения Второго Рима потомство Ивана III стало наследниками Палеологов, и пока строился Архангельский собор, Иван именовался кесарем и новым царем Константином. А Василия III, заказчика собора митр. Петра, папа Лев X Медичи призывал «за свою отчину Константинопольскую стояти» и выступить «для общего христианского добра против христианского врага турка, кой держит наследие царя всея Руси » (цит. по: [7, с. 262–63].
Воссоздать преемственность с римскими холмами Борису Прокофьевичу помогало изучение источников, относящихся к истории обители. Ему было известно, что своим местом постройки собор был обязан самой высокой точке северного двора и сам монастырь именовался Высокопетровским, так как возводился на высоком берегу Нег-линки. У Алевиза здание выглядело намного выше и стройнее, чем в дошедшем до нас виде, поэтому Дедушенко добивался, чтобы грунт у южной стены был понижен почти на два метра. Из отчета: «Собор Петра митрополита поставлен так, что обозревается только с близких расстояний. Первоначально, при более низкой поверхности земли, он был еще выше и воспринимался в выразительных, острых перспективных ракурсах. Вместе с присущей зданию собора величавой мощью это должно было придавать ему особую эмоциональность» [6, с. 168–169].
Как вспоминает Л. А. Беляев, в команде был каменщик, обративший внимание, что размеры кирпича и перевязка кирпичной кладки сильно отличаются от того, как выложены другие храмы монастырского комплекса. Археологические обследования подтвердили, что перед реставраторами единое архитектурное тело и оно, кроме растески окон, никогда не перестраивалось, но только дополнялось в несколько этапов на протяжении XVII–XVIII вв. Был в команде и специалист, исследовавший химический состав краски, которой был окрашен кирпич. Он также подтвердил гипотезу, что собор относится к началу XVI века. Восстановленный Дедушенко терракотовый (а не коралловый, как после последней реставрации) цвет типичен для старых итальянских зданий. Нашлись в Италии и ближайшие подобия гранёного шлемовидного купола Петровского собора и в архитектуре Тосканы (например, купол собора Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции, хотя тот и значительно больше по размеру), и в Апулии (вышеупомянутый собор ап. Петра в Чериньоле).
Нам кажется, что отсылка Дедушенко к апостолу Петру требует включить в наш ряд и сооружения «классического» стиля [5, с. 201] – те, что были задуманы или реализованы мастерами Высокого Возрождения в Первом Риме и предвосхитили так называемый римский классицизм и его зрелищно-пластические открытия. В этом ряду особняком стоят опыты с центрическими и центрально-купольными постройками, среди которых выделяется не реализованный
Брамантов план главного сооружения Ватикана – собора св. Петра.
Среди подготовительных этапов развития архитектуры Высокого Возрождения назовем уже упомянутую миланскую церковь Санта-Мария прессо Сан-Сатиро (перестройка 1472–1482). Ее неудачное расположение подтолкнуло Браманте обыграть изъяны конструкции с помощью зрительных и композиционных уловок. Из-за того, что затес-ненность места не позволяла завершить неф апсидой соответствующих размеров, апсиду все равно смоделировали, однако не реально, а иллюзорно, в интерьере. С помощью рельефа и живописи Браманте воспроизвел на стене нефа коробовый свод, повторяющий те, что перекрывали остальные нефы церкви. Чтобы завершить конструкцию, он внес соответствующие стилистические изменения и в северный неф: часовня церкви получила оформление в виде ложных колонн и нишевых дуг и превратилась из крестообразной пристройки в круглую.
Однако в контексте сегодняшней встречи для нас по-прежнему важней обращать внимание на то, как работает физическое, а не иллюзорное пространство. Ведь архитектура – искусство, обусловленное материалом, и трактует человеческую телесность как часть, подчиненную целому, а не стоящую над ним. Поэтому более показательно для нас не столько то совершенство, которого достигла живописная композиция, скажем, у Рафаэля, вписывающего фигуры в идеальную сферу («Обручение Марии», 1504, Брера, Милан; «Афинская школа», 1510–1511, Апостольский дворец, Ватикан), сколько приемы, как у его предшественника и учителя Перуджино, у которого архитектура пока остается нарисованными постройками, а не частью среды, не элементом зрелищности. Трехмерное объемы, перенесенные на плоскость, несут у Перуджи-но прямую символическую нагрузку (ср. арка как средство глорификации Христа в «Пьете», 1495, Уффици, Флоренция) и придают ясность и стройность мирозданию, каким его видит художник («Обручение Марии», ок. 1503, Му- зей изобр. искусств, Кан; фреска Сикстинской капеллы «Вручение ключей апостолу Петру», ок. 1482). Кроме финальной фазы трансформации живописи-моделирования в живопись-умозрение и, как итог, зримо достигнутому свидетельству о причастности людей космической гармонии (у Рафаэля в «Афинской школе» она передана посредством перспективы, сформированной уменьшающимися дугами; по убеждению Вазари, автором этой находки и архитектурного фона всей фрески был не Рафаэль, а Браманте), нужно помнить, прежде всего, о начальной фазе трансформации архитектурного начала в живописное. Это происходит в середине – второй половине XV века.
К ней относятся градостроительные фантазии на тему человеческих общежитий, частично реализованные в Ломбардии и в Урбино. Постройки идеального в плане города Сфорцинды, который должен был возводиться под началом миланского герцога Франческо Сфорца, замышлялись Филарете «по подобию человеческому». Напротив, картина «Идеальный город» (окончательно не атрибутированная, но одно время приписываемая Пьеро делла Франческа и, вероятно, выполненная по заказу урбинского герцога Федериго Монтефельтро) как будто не пытается соизмеряться с человеком. Из подобных изображений вырос специфический жанр перспективной живописи Ренессанса – ведута. Этот город упорядочен по законам небесной гармонии, его ландшафт абстрактен, а сам он изображается так, будто существует вне времени и вне политики. Иначе говоря – как вездесущий. В отличие от многофигурной «Афинской школы», полной людей, ранние ведуты настолько идеальны, что, кажется, эмпирическому человеку нет места в системе строгой архитектоники ренессансного мира. А идеальный человек, видимо, еще не родился.
В мире Пьеро делла Франческа этот человек существует, но его бытие оправдано лишь в той мере, в какой оно подчиняется не умозрительно, а архитектурно смоделированному мирозданию. Именно за счет его неподвижно- сти, решенной у Пьеро как величественность и монументальность героев его фресок, и происходит высвобождение той колоссальной зрительной активности смотрящего, которая делает возможным переход визуальности Ренессанса от моделирования к созерцанию.
«Ты – Петр»
Человекоцентричность, гуманистическая направленность собора митр. Петра очевидна. Его прямая осанка – свидетельство ренессансной антропологии, выраженной Джованни Пико делла Мирандолой в «Речи о достоинстве человека» устами Творца: «Я ставлю тебя в центр мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире» [9, с. 249]. Его объем дает представление о принципах всего мироздания в той мере, в какой макрокосм зримо повторяется в микрокосме и в какой законы физики, оптики, перспективы, как верят архитекторы, исходят от самого Бога. Даже материальное измерение архитектуры Ренессанс наделяет божественным достоинством, потому что если бы Бог не принял на себя бремя материи, Он бы не вочеловечился и не воскрес в теле. Это позволяет нам наделить собор чертами личности, самостоянья. Заметить, во всяком случае, что встречное послание нам явно отправляет существо, чье главное достоинство – стоять прямо – получено не от природы, а идет как бы от себя.
Напрашивается сравнение с Темпьетто Браманте: втиснутый во двор монастыря СанПьетро ин Монторио, он так же не рассчитан на толпу, а обращен к отдельному человеку. Но это и заставляет выделить различия между ними. Ступенчатое основание Темпьетто вместе с купольным завершением цилиндрической целлы как бы вписывает постройку в воображаемый конус. «От основания к вершине купола масса постройки плавно убывает от максимума до нуля, что выражает древнюю, как сама архитектура, “эстетику тяжести”, в наиболее чистом виде воплощенную в форме египетской пирамиды. Этой художественной концепции вполне отвечает колоннада утяжеленных пропорций, формулирующая своим ордерным языком представление о монументальности, но в то же время сообщающая сооружению “человеческий масштаб”» [8, с. 364]. О Темпьетто хочется сказать, что он «крепко встал на землю, цепко соединился с ней». Основное же движение нашего локутора – распрямление; за счет баш-необразности и обширной пространственной среды он выглядит менее устойчивым и если и не грозит упасть, подобно столбу, то лишь за счет пропорционального сложения и сбалансированности.
Распрямившийся, он зримо противостоит силам, грозящим его столкнуть. Таков был и его «крестник» император Петр – человек ростом с башню, торопливый и норовистый и, как чудом спасшийся от смерти и этим преследуемый, нервно неуравновешенный. Есть в соборе отсылка и к тезоименитому святому царя – митрополиту Петру, который, как гласит легенда, рывком избавился в отрочестве от косноязычия (заикания?) и воспрянул духовно. И к их общему небесному покровителю – человеку вспыльчивому и строптивому, временами отважному, временами малодушному, чье несовершенство придавало ему смелости продолжать свое дело. Дело его было заповедано Создателем: «И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16, 18; ‘Петрос’ по-греч. ‘камень’).
Чтобы убедиться, что именно личное начало, пронизывающее Новый Завет, служило Ренессансу источником обновления человека, достаточно перечитать трактат Петрарки «Против всякой фортуны»: там тоже прославляется человеческое достоинство. Его адресат – не римское лицо, т. е. гражданин – зримый носитель свободной воли, а современник. Достоинство, по Петрарке, дается человеку не от природы, т. е. благодаря принадлежности знатному роду или общему делу, республике. И не как подарок судьбы, например, по милости случайно свалившегося богатства. Оно приобретается тем, что Петрарка ставит выше природы, – личным усилием, благородством ума и стойкостью характера. «Всем движет воля, не жесткая, без отчаяния и фанатизма, но абсолютно непреклонная. Полагаясь на разум, предвидение и расчет, она ставит себе предельно высокую, но реально достижимую цель и наперекор Фортуне приходит к ней во что бы то ни стало» [3, с. 288].
Список литературы Собор святителя Петра, митрополита Московского, и традиции итальянского ренессанса в московском зодчестве XV-XVI вв
- Беляев Л. А. Из новейших открытий археологов ИА РАН // Институт археологии РАН. Новости. Публикации. 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://www.archaeolog.ru/ru/press/articles/n345
- Беляев Л. А. Собор и кладбище. Высоко-Петровский монастырь (Москва): находки, утраты, методические ошибки 2010-х годов. Часть вторая // Вестник Сектора древнерусского искусства. 2021. № 2. С. 101-115.
- Бибихин В. В. Новый Ренессанс: монография. Москва: МАИК «Наука», Прогресс-Традиция, 1998. 493 с.
- Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения: монография. Москва: Прогресс, 1986. 392с.
- Гращенков В. Н. О принципах и системе периодизации искусства Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения. Москва: Наука, 1978. С. 201-247.
- Дедушенко Б. П. Собор митрополита Петра Высокопетровского монастыря в Москве // Труды НИИ Культуры (Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры). Т. 35. Москва: НИИК, 1976. С. 158-173.
- История дипломатии. В 5-ти томах Под ред. Зорина В. А., Семенова В. С. и др. 2-е изд. Москва: Госполитиздат, 1959. Т. 1. С. 262-263.
- Лисовский В. Г. Архитектура эпохи Возрождения: монография. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007. 613 с.
- Пико делла Мирандола Джованни. Речь о достоинстве человека // Эстетика Ренессанса. Т. 1. Москва: Искусство, 1981. С. 242-265.
- Плуцер-Сарно А. Ю. История Высоко-Петровского монастыря. Собор Петра Митрополита. Из семейного архива // Живой журнал. 2010. [Электронный ресурс]. URL: https://plucer.livejournal.com/9435. html
- Подъяпольский С. С. Историко-архитектурные исследования. Статьи и материалы: сборник статей. Москва: Индрик, 2006. 319 с.
- Хранители памяти. Высоко-Петровский монастырь. Часть 1. Беседа с Леонидом Беляевым // TV. Союз. 2016. [Электронный ресурс]. URL: https://tv-soyuz.ru/peredachi/hraniteli-pamyati-13-09-2016