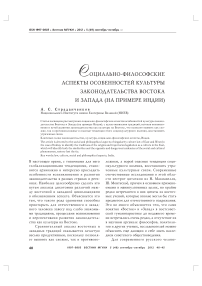Социально-философские аспекты особенностей культуры законодательства Востока и Запада (на примере Индии)
Автор: Страданченков Александр Симонович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 5 (49), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению социально-философских аспектов особенностей культуры законодательства Востока и Запада (на примере Индии), с целью выявления традиций, истоков возникновения и путей развития законодательства как культуры на Востоке, что позволит выявить как схожие, так и противоположные и опасные тенденции этого социокультурного явления, восстановить утраченные связи.
Законодательство, культура, социально-философские аспекты, индия
Короткий адрес: https://sciup.org/14489313
IDR: 14489313
Текст научной статьи Социально-философские аспекты особенностей культуры законодательства Востока и Запада (на примере Индии)
В настоящее время, с типичными для него глобализационными тенденциями, становится архиважно и интересно проследить особенности возникновения и развития законодательства в разных странах и регионах. Наиболее целесообразно сделать это путем анализа дихотомии различий между восточной и западной цивилизациями в обозначенном аспекте. Объясняется это тем, что такого рода сравнения способны приоткрыть для отечественного и западного человека завесу над слабо знакомыми традициями, процессами возникновения и перспективами развития законодательства как культуры на Востоке.
Сравнительный анализ восточных и западных традиций оказывается зачастую весьма продуктивным, поскольку позволяет выявить как схожие, так и противопо- ложные, а порой опасные тенденции социокультурного явления, восстановить утраченные культурные связи. Современные отечественные исследования в этой области пестрят цитатами из Н. Макиавелли, Ш. Монтескьё, причем в основном применяемыми в манипулятивных целях, но крайне редко встречаются в них цитаты из восточных учений, которые вполне могли бы стать предметом для отечественного подражания. Это во много объясняется тем, что сами понятия «Восток» и «Запад» в постсоветской гуманитаристике до недавнего времени встречались очень редко, а отсутствие их в научном арсенале философов, политологов и других ученых, исследователей можно объяснить еще дающим о себе знать наследием советского обществоведения.
Для современного русского челове- ка Восток всегда был окутан тайной, что привело к незнанию многих особенностей Востока и неумению продуктивно использовать некоторые из восточных традиций, которые, при грамотном перенесении на западную и отечественную почву, могли бы принести большую пользу как отечественной, так и мировой науке.
Происхождение понятий Востока и Запада восходит ко времени азиатских завоеваний Александра Македонского, мечтавшего соединить проживающие в разных концах света народы на условиях принципов дружбы и согласия. Юго-восточная экспансия, помимо военных завоеваний, осуществлялась во многом посредством деятельности венецианских и других европейских купцов, проникающих в Египет, Индию, Китай. Но результаты последующих арабских войн и взятие Константинополя турками-османами в 1453 году привели к фактическому разделению некогда всесильной Римской империи и образованию двух мирообразующих ареалов: «христианской Европы» (Запада) и «мусульманского Востока» (Востока). Это фактическое деление и послужило в дальнейших научных интерпретациях созданию дихотомии Запад — Восток. В конце XV века окрепшая Османская империя перекрыла и торговые пути из Европы в Китай и Индию (9, с. 71), что послужило дальнейшему закрытию Востока и отдалению его от Запада.
Проблему и различия этих наиболее крупных социокультурных систем рассматривали многие ученые. Но первое в истории культуры и истинно философское обобщение этому явлению дал Г.В.Ф. Гегель. К странам Востока он отнес древние цивилизации Азии и примыкающей к ней — Северной Африки: Индию, Китай, Ассирию, Вавилонию, Иран, Мидию, Сирию, Финикию, Иудею и Египет. Учитывая религиозные особенности всемирной истории, Гегель причисляет к Востоку и исламский мир, в результате чего выделенный им ареал в результате стал представ- лять собой совокупность преимущественно трёх культурно-исторических миров: индийского, китайского и ближневосточного (мусульманского). К Западу же он относит античный мир (греческую и римскую цивилизации) и западноевропейскую цивилизацию. И хотя, как отмечал Генон Рене, такая классификация может показаться несколько упрощенной для тех, кто стремится разобраться в деталях, она остается, тем не менее, верной в своих основных чертах (8, с. 21). Вслед за Гегелем известный французский философ, мыслитель также относил к Востоку Индийскую, Китайскую и Исламскую цивилизации.
Не углубляясь во множество порой достаточно различных взглядов современных и более ранних мыслителей на принципиальные отличия Востока и Запада, отметим, что основное внимание обращается при этом на следующие противопоставления: духовность — практицизм, мистицизм — рационализм, монизм — дуализм, космоцентризм — антропоцентризм. В результате этого Запад и Восток являют собой два противоположных типа мировоззрения, мироощущения, способа бытия в мире, две противоположные типологические формы культуры: деятельностную и созерцательную, интеллектуальнорационалистическую и образно-поэтическую, активно-прогрессистскую и сдержанно-консервативную, прагматическую и экономическую (7, с. 113). При этом некоторые исследователи видят некую дуальность в принципах построений отношений между элементами социальных систем Восток — Запад, подразумевая под «Западом» принцип личностный, а под «Востоком» — социальный принцип. Сущность восточных социальных систем, по мнению российского историка-востоковеда Л.С. Васильева, определяется азиатским способом производства, характерным для всех неевропейских докапиталистических обществ (первичность здесь основана на власти — собственности государственного сектора, а вторичность на частнособственническом секторе), и сводится к консервативной стабильности (1).
Указанные различия Востока и Запада не могли не отразиться и на самих культурных процессах возникновения законодательства и права как культурных явлений. И если основные черты процесса возникновения законодательства на Западе, в общем, описаны автором статьи в ряде предыдущих работ, то для понимания онтологических и гносеологических корней и аспектов этого культурного явления на Востоке целесообразно рассмотреть основные идейнофилософские, социально-политические теории, учения и сами социокультурные явления, существовавшие и распространенные в выше обозначенных восточных цивилизациях (социокультурных ареалах). В данном случае сделаем это на примере анализа развития культуры законодательства (индуистского права) в Индии.
Примерно в одно время с возникновением в Греции и Китае (середина I тысячелетия до н.э.) появляется философия и в Индии, а вместе с ней и основы мировоззрения о праве, законодательстве. Интеллектуальный скачок в этой стране объяснялся уже знакомыми нам по Древнему Риму причинами: развитие производительных сил вследствие перехода от бронзы к железу, появление товарно-денежных отношений, ослабление родоплеменных структур, возникновение первых государств, рост оппозиции традиционной религии и ее идеологам в лице сословия жрецов, критика нормативных нравственных установок и представлений, усиление критического духа и рост научных знаний. Таковы некоторые факторы, из которых складывалась атмосфера, благоприятствовавшая рождению философии (4, с. 46).
Как и в Древнем Риме, а также в России и ряде других регионов, основы культуры законодательства в Древней Индии были заложены религиозными и философскими учениями.
Основной религией в Индии, выступаю- щей в настоящее время в форме индуизма, являлся брахманизм, восходящий в своих догмах, как и многочисленные философские школы того времени, к Ведам («веда» — знание) — сборникам гимнов в честь богов. Это религиозно-философское учение сложилось в первой половине I-го тысячелетия до н.э. и было направлено на утверждение в складывающихся государствах данного ареала социальной стратификации, основанной на ведическом делении общества на четыре нисходящие варны: варна жрецов (брахманы), варна воинов (кшатрии), варна земледельцев, ремесленников и торговцев (вайшьи) и низшая варна (шудры). Учение о брахмане — бестелесной, безличной и бескачественной субстанции, которая лежит в основе всего сущего, излагалось в священных книгах — Махабхарате, Брахманах, Упанишадах, Араньяках и др. Брахма представлялся и как «вечный творец существ», и как определяющий для всех «имена, род деятельности (карму) и особое положение» (3, с. 22—23).
Культура законодательства по линии брахманизма связана с многочисленными законоведческими и политическими трактатами, наиболее авторитетным из которых был «Манавадхармашастра» («Наставления Ману о дхарме» — составлен в период II века до н.э. — II века н.э.). Этот трактат был переведен на русский язык под названием «Законы Ману». В «Законах Ману» воспроизводятся и защищаются соответствующие положения Вед и Упанишад о делении общества на варны, их неравенстве и т.д. Особое значение придается обоснованию руководящего положения брахманов и исключительному характеру их прав в вопросах установления, толкования и защиты дхармы (закона) (5, с. 199).
Государство представлено в брахманизме как установленный богами институт, а носители этой власти — как боги в человеческом облике. Как божественное установление освящалась и сословная структура общества — деление его на сословия
(варны)1.
Основополагающим принципом теории закона (дхармы) брахманизма была идея наказания. Ей придавалось столь огромное значение, что саму науку управления государством называли учением о наказании. «Весь мир подчиняется посредством Наказания», — провозглашали «Законы Ману». Определяя принуждение как главный метод осуществления власти, идеологи жречества усматривали его назначение в том, чтобы «ревностно побуждать вайшьев и шудр исполнять присущие им дела, так как они, избегая присущих им дел, потрясают этот мир» (6).
Особое место в истории законодательной культуры Индии занимает трактат «Артхашастра» («Наставления о пользе»), созданный при царе Чандрагупты в IV веке до н.э. В основном он воспроизводит положения брахманизма, но в то же время, в отличие от ортодоксальных школ брахманизма, настаивавших на верховенстве религиозного закона, авторы трактата отводили главную роль в законодательной деятельности государю. Как подчеркивалось в «Артхашастре», из четырех видов узаконения дхармы — царского указа, священного закона (дхармашастры), судебного решения и обычая — высшей силой обладает царский указ. На первый план в «Артхашастре» выдвинута идея сильной централизованной царской власти. Государь предстает здесь неограниченным самодержавным правителем. Царям рекомендуется руководствоваться в первую очередь интересами укрепления государства, соображениями государственной пользы и не останавливаться, если того требуют обстоятельства, перед нарушением религиозного долга (6, с. 69).
Индийская философия развивалась практически исключительно в русле шести классических систем — даршан (веданта, санкхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса), которые ориентировались на авторитет Вед и неортодоксальных течений: материалистической чарвака, или локаята, джайнизма и буддизма (4, с. 52). В большинстве из этих философских направлений, как и в брахманизме, одним из центральных понятий выступает «дхарма» («закон», «правило»), которое используется для обозначения и объяснения морального долга, обязанностей человека или высшей истины и находится в основе индийской культуры законодательства. Важно отметить, что какие бы законы не применялись правителями, они непосредственно должны согласовываться с дхармой и не могут оказать на последнюю никакого воздействия. Сами по себе законы и приказы — меры, вызванные временной необходимостью, они оправданны конкретными обстоятельствами и изменяются вместе с ними. При их применении судья должен применять их, исходя из широкого усмотрения, — чтобы всеми возможными способами примирить справедливость и власть (2, с. 336).
Одним из основных религиозно-философских учений, развивающимся на основе традиционных норм ведической религии, был буддизм, возникший в Древней Индии около VI века до н.э. Первоначально буддизм отражал взгляды рядовых земледельцев-общинников и городской бедноты. Впоследствии он претерпел значительные изменения. Заинтересованные в поддержке господствующих сословий руководители буддистских общин подвергают учение пересмотру. В нем усиливаются мотивы покорности и непротивления существующей власти, смягчаются требования крайнего аскетизма, появляются идеи спасения мирян. Светские правители, в свою очередь, начинают использовать учение в борьбе против засилья жречества и стремятся приспособить буддистские догматы к официальной идеологии (6, с. 70).
В известном буддийском каноне IV—III веков до н.э. — «Дхамма-Паде»
(«Стезе закона») толкование дхармы, в противопоставлении традиционнотеологическому брахманистскому ее изложению, предстает в качестве управляющей миром природной закономерности, естественного закона. Гуманистическая направленность указанного трактата проявляется в его стремлении к ограничению роли и масштабов наказания, в выражении принципа недопустимости применения наказания при отсутствии вины.
Последовавшая за буддистским периодом истории Древней Индии (V—III века до н.э.) классическая эпоха (II век до н.э. — VI век н.э.) характеризовалась чередованием усиления, укрепления и борьбой противоборствующих династий, создающих достаточно крупные, но не прочные державы. Несмотря на это, а также на постоянные вторжения преимущественно со стороны северо-западных сил удалось окончательно сформировать достаточно целостную и стабильную систему, базирующуюся на общинно-кастовых, религиозных устоях, проповедующую буддизм как философию и массовую религию, обращенную к каждому человеку и мирно сосуществующую с ведическими корнями.
История средних веков Индии, до начала ее европейской колонизации, характеризовалась длительными завоеваниями большей ее части преимущественно мусульманскими правителями (Делийским султанатом, империей Великих Моголов, империей Маратхов и т.д.), что привело к наложению традиций исламской и индуистской культур и образованию социокультурных феноменов, играющих определенную роль и в жизни современной Индии.
После завоевания Британией в начале семидесятых годов XVIII века Индии с подачи генерал-губернатора Уоррена Гастингса в качестве законодательной основы системы управления колонией было использовано индуистское право, базирующееся на ранних переводах санскритских текстов «Дхарма-шастры» — трактатов по религиозным правилам поведения индуистов. Согласно плану английского руководства, достаточно адаптивно учитывающего культуру местного населения — проповедующего в основном индуизм и мусульманство, «во всех случаях, касающихся наследства, заключения брака, кастовых или других религиозных вопросов, законам Корана в отношении мусульман и законам шастр в отношении индусов надлежит непременно следовать»2. И хотя до этого времени «Дхарма-шастры» представляли собой теоретические размышления о практическом праве3, англичане стали использовать их в качестве правового кодекса.
Стоит также заметить, что индуизм, или индуистское право, — это в настоящее время не столько право Индии, так же как мусульманское право не то же самое, что право государств с мусульманским населением (за исключением отдельных государств, где шариат признан государственной религией). Индусское право — это право общины, которое в Индии и других странах Юго-Восточной Азии исповедует индуизм (2, с. 330).
После освобождения Индии от колониальной зависимости (1947 год) и принятия в 1950 году Конституции законодательство страны все больше и больше использует аналогичные современному миру правовые культурные формы, во много воспринятые из культурно-правовых конструкций римского права путем рецепции.
В заключение отметим, что индуистское право имеет невосполнимое значение и является частью современного индийского законодательства, законодательной культуры страны. Религиозные же и правовые предписания по настоящее время перемешаны друг с другом в культуре зак онодательства И ндии.
-
2 See Sect. 27 of the Administration of Justice Regulation of 11 April 1780.
-
3 Смотри, например: Richard W. Lariviere Justices and Pasaitas: Some Ironies in Contemporary Readings of the Hindu Legal Past // Journal of Asian Studies. 48 (1989). P. 757—769; Ludo Rocher. Law Books in an Oral Culture: The Indian Dharmasastras // Proceedings of the American Philosophical Society. 137 (1993). P. 254—267.