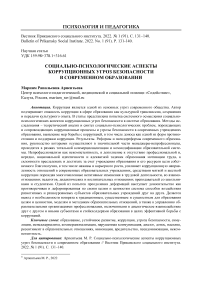Социально-психологические аспекты коррупционных угроз безопасности в современном образовании
Автор: Арпентьева М. Р.
Журнал: Вестник Прикамского социального института.
Рубрика: Психология и педагогика
Статья в выпуске: 1 (91), 2022 года.
Бесплатный доступ
Коррупция является одной из основных угроз современного общества. Автор подчеркивает опасность коррупции в сфере образования как культурной трансмиссии, сохранения и передачи культурного опыта. В статье представлена попытка системного осмысления социальнопсихологических аспектов коррупционных угроз безопасности в системе образования. Методы исследования – теоретический анализ и синтез социально-психологических проблем, порождающих и сопровождающих коррупционные процессы и угрозы безопасности в современных учреждениях образования, выявление мер борьбы с коррупцией, в том числе доноса как одной из форм противостояния и поддержки коррупции. Результаты. Реформы и псевдореформы современного образования, руководство которыми осуществляют в значительной части менеджеры-непрофессионалы, проводятся в рамках тотальной коммерционализации и коммодификации образовательной системы. Непрофессионализм как некомпетентность, в дополнение к отсутствию профессиональной и, нередко, национальной идентичности и адекватной задачам образования мотивации труда, к склонности преследовать и достигать за счет учреждения образования и его ресурсов цели собственного благополучия, в том числе наживы и карьерного роста, усиливает коррупционную направленность отношений в современных образовательных учреждениях, средствами мягкой и жесткой коррупции порождая многочисленные негативные изменения в трудовой деятельности, во взаимоотношениях педагогов, дидактических и воспитательных отношениях преподавателей со школьниками и студентами. Одной из попыток преодоления деформаций выступает доносительство как противоречивая и деформированная по своим целям и ценностям система способов воздействия разнотипных и разноуровневых субъектов образовательных учреждений друг на друга. Делается вывод о необходимости возврата к традиционным, существенным и сущностным для образования целям и ценностям, моделям и методикам образовательных отношений, а также к управлению образовательными организациями профессионалами, включенными в диалогическое взаимодействие друг с другом и иными субъектами и стейкхолдерами образования в целях эффективной борьбы с коррупцией.
Образование, устойчивое развитие, коррупция, угроза безопасности, симуляции, менеджериализм, коммерционализация, нарушенная коммуникация, диалог, донос, насилие, ресентимент в образовательных отношениях, инновации, вредительство, псевдоинновации, некомпетентность
Короткий адрес: https://sciup.org/14126483
IDR: 14126483 | УДК: 159.98+378.1+316.61
Текст научной статьи Социально-психологические аспекты коррупционных угроз безопасности в современном образовании
Коррупция – одна из основных угроз современного общества. Особенно опасна она в сфере образования как культурной трансмиссии, сохранения и передачи культурного опыта. Современное российское и мировое образование столкнулось с многочисленными профанациями и массовой коррупцией. Проводимые в образовании многих стран реформы образования являются результатом договоров, заключенных правительствами разных стран с надгосударственными структурами, как правило, лоббирующими интересы транснациональных корпораций. Ведущей идеей таких коррупционных в своей основе договоров, задающих деформации современного образования во многих странах мира, являются идея устойчивого развития и, в качестве ее необходимого компонента, идея устойчивого образования, а также идея образования как сферы производства, продажи и потребления образовательных услуг [1]. Данные идеи являются основой многочисленных симуляций образования, призванных исказить представление о его необходимости и роли (функциях) в жизни человека, его возможностях и возможностях человека и, на основе этих искажений, уничтожить образование, заменив его псевдообразовательными практиками и техно- логиями типа «игрового», «взаимного», «случайного» обучения, дистанционного обучения или даже «прямой передачи информации» от компьютера к человеку посредством нейроинтерфейсов.
Симуляции и реформы современного образования осуществляются в рамках тотальной коммерционализации и коммодификации образования под руководством специально подготовленных к реализации данных задач менеджеров-непрофессионалов. Данная группа менеджеров, не будучи высококомпетентными специалистами и признанными профессиональным сообществом лидерами в сфере науки и образования, активно работает над задачами коммерционализации образования и превращения образования в более или менее коррумпированный и представленный «инновационными» симуляциями бизнес. То, что невозможно при условии понимания образования как института культуры, культурной трансмиссии, становится возможным и привычным, если оно начинает пониматься как сфера экономических отношений.
Усеченно понятая и реализованная «практическая ориентированность», включая модель, предложенную предшественниками, сторонниками и последователями Дж. Дьюи, отражающую основное содержание «устойчивого образования», часто подразумевает нацеленность на инволюционную, деформирующую человека и сообщество практику, пропагандирующую и легитимизирующую кризисное, неестественное для общества (и бизнеса/производства) состояние «стабильного развития», жесткую стратификацию социума на «грязный миллиард» и «золотой миллион» (группы «людей служебных» и «элиты») [2; 3]. По сравнению с этой моделью модель А. С. Макаренко, еще одного столпа «трудового обучения и воспитания» человека, помимо Дж. Дьюи с его My credo (в чем-то созвучным с Mein Kampf А. Гитлера), ориентирована на прямо противоположные цели: полноценное функционирование и совершенствование общества и человека [4; 5].
Методика и методология исследования. Работа представляет собой попытку системного теоретического осмысления социально-психологических аспектов коррупционных угроз безопасности в системе образования. Методы исследования – теоретический анализ и синтез социально-психологических проблем, которые порождают и сопровождают коррупционные процессы и угрозы безопасности в современных учреждениях образования, выявление мер борьбы с коррупцией и анализ доноса как одной из форм противостояния и поддержки коррупции.
Основные результаты исследования.
Проблематика коррупции в образовании
В настоящее время существует большое число исследований коррупции образования в России и за рубежом (Е. А. Акунченко, Ж. Аллак, Н. В. Ванюхина, И. А. Дамм, И. Л. Грошев, И. А. Грошева, С. В. Дергачев, Н. В. Захаров, Г. Л. Ильин, П. А. Кабанов, А. А. Кирилловых, Ю. А. Коваль, K. Kомаласари, Д. Г. Левитес, В. А. Михеев, И. В. Плю-гина, М. Пуазон, Е. Е. Румянцева, Д. Сарипудин, А. И. Скоробогатова, А. Хайденхаймер, Д. С. Чекменев и др.). Однако, вопреки многочисленности исследований причин, последствий, видов и механизмов коррупции, психологические аспекты ее возникновения раскрыты до сих пор не полностью, исследований, посвященных этой проблематике, недостаточно. Предварительный анализ проблемы, данный в социологических, правовых и иных исследованиях, посвященных проблемам коррупции, показывает, что коррупция в образовании рассматривается как негативное социальное явление, существующее в образовательных отношениях и связанное с противоправным/незаконным и нарушающим нормы нравственности/морали систематическим или однократным использованием должностного положения, статуса субъектами этих отношений в целях извлечения различных выгод (не)материального типа для себя или иных субъектов [6, с. 5; 7, р. 39]. В психологической и нравственной сферах коррупция опирается на признание собственных инстинктов (благополучия, превосходства и размножения) главными жизненными ценностями. Здесь опорой нормализации коррупции выступает нравственная и общая деградация индивидуального и общественного сознания и бытия, выражающаяся в массовом росте корысти и алчности, невежественности и непрофессионализма, беспринципности, терпимости к коррупции и преступлениям против закона и нравственности [8, с. 12, 316]. Е. Ю. Федоренко [9, с. 49] и другие исследователи часто отмечают, что коррупция связана с рассогласованием декларируемых и реально существующих ценностей и норм. Коррупция тесно связана с процедурами социального обмена и стремлением человека соответствовать нормам референтной группы, быть уверенным в поддержке и одобрении, соответствии традициям и т. д. В итоге коррупция часто оказывается связанной именно с нормой: в пример можно привести «дилемму заключенного», согласно которой, в частности, даже не нуждающийся во взятках человек может взятку дать. Кроме прочего, психологически и фактически взятка, данная на «низовом уровне» коррупции, часто помогает решить регулярно возникающие, но малозначительные, рутинные проблемы. Коррупция при этом нередко оправдывается традицией дарения, но бытовое взяточничество и иные формы коррупции существенно отличаются от дарения, поскольку дар совершается свободно как благодарность, а коррупция представляет собой принуждение, это оплата. Вместе с тем непонимание границы между взяткой и благодарностью весьма типично, даже при условии «разъяснительной работы» [9, с. 52]. Хотя общие антикоррупционные предписания руководства образовательных учреждений относительно «низовой коррупции» могут быть весьма жесткими и однозначными, на практике, однако, речь идет не о том, чтобы лишать людей возможности быть благодарными, а о том, чтобы выявлять и пресекать попытки получения (не)материальных выгод самим руководством («верхушечной коррупции»), подчиняющимися ему иными субъектами образовательных организаций и «третьими лицами», находящимися в отношениях кумовства/родства или иной зависимости от руководства. Ярким примером здесь являются постоянная, скрытая по своим механизмам и непонятная сотрудникам ревизия внутренних нормативов университета [10, с. 120]: например, в рамках всякого рода балльно-рейтинговых систем оценки труда специалистов практически без ведома трудового коллектива и учета мнений непосредственных руководителей практикуется назначение надбавок (обычно на более низком, чем можно было бы ожидать, уровне) с постоянной сменой приоритетов «ценностей» того или иного вида труда сотрудника.
Как отмечает И. А. Дамм, «опасность коррупции в сфере образования заключается в том, что процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом, сводится к сделке… образование фактически сводится к отношениям купли-продажи, при этом уровень приобретаемых … опыта деятельности и компетенций остается за рамками коррупционной сделки» [6, с. 5]. Это определение в целом полностью характеризует современную модель образования как купли-продажи. Помимо самой по себе сделки, коррупция порождает привыкание к ней (психологическую и социальную нормализацию), формируются и развиваются готовность и способность к вступлению в коррупционные отношения, в том числе в ходе реализации полученных (квази)профессиональных компетенций уже в процессе трудовой деятельности [11; 12; 13]. Важно также, что некоторые исследователи связывают коррупцию с инновациями в образовании [14]. Сами по себе инновации могут и противодействовать, и потворствовать коррупции, и, как, например, введенная во многих вузах балльно-рейтинговая система оценки труда сотрудников, являться прямо предназначенным для коррупционных целей механизмом: под видом «справедливого» распределения фонда оплаты труда работников во многих организациях реализуются программы совершенно противоположного типа [10, с. 120].
-
А . Хайденхаймер выделил три типа коррупции [15, с. 1‒5]. Белая обозначает практики, относительно которых в общественном мнении существует согласие: данные действия не считаются предосудительными. Они, по существу, интегрированы в культуру и не воспринимаются как проблема. Черная коррупция является объектом иного консенсуса: действия осуждаются всеми слоями общества – когда преобладает согласие элиты и общественного мнения в осуждении и желании наказать ее на основе закона. Серая коррупция включает практики, относительно которых никакого согласия не достигнуто: «большинство может не иметь определенного мнения по этому поводу» [16, с. 89]. В противовес распространенному мнению о том, что наиболее частой и значимой является коррупция отношений педагогов и учеников, основные проблемы коррупции возникают именно там, где есть максимальные возможности использования должностного положения и статуса – там, где это положение и статус наибольшие, то есть в управлении образованием. Поскольку ситуация коррупции связана у человека с преодолением трудностей, фрустрацией, то типично возникновение стремления к самозащите и экстернальному приписыванию вины (окружению, ситуации) или к нормализации коррупции как «белой» или «серой» («все так делают» / «рука руку моет», «не запрещено – значит разрешено»). Оправдание коррупционного поведения внешними обстоятельствами закрепляет толерантность россиян и жителей многих иных стран к коррупции как к неизбежной и допустимой, практически нормальной форме отношений в обществе [9; 17; 18].
Коррупция проявляется на нескольких уровнях социально-психологического взаимодействия:
-
– социальной перцепции (разделение мира на «своих» и «чужих», ингрупповой фаворитизм и расчеловечивание «врагов»);
-
– коммуникации (тайны и сговоры блокируют, деформируют распространение определенной информации, а «утечка» информации как предмета наживы карается);
-
– интеракции (формирование и углубление конфликтов и асимметрий отношений, недопущение/наказание паритетности);
-
– интеграции (построение отличной от профессионально заданной иерархии / системы отношений, отношения протекции и защиты только для членов организован-ной/мафиозной группировки);
-
– ценностных оснований жизнедеятельности и труда (активное участие в интригах, психопатизация или социопатизация как отказ от нравственных норм, в том числе через специальные инициации, включающие разделенный с другими членами преступной организации опыт преступных и безнравственных поступков).
Менеджер образования как субъект коррупции
Современное образование коммерционализировано и бюрократизировано. Бюрократизация является важнейшим компонентом коррупции. Без нее, в том числе без современного менеджериализма в образовании, развалить образование было бы намного сложнее. Менеджериализм характеризуется целым рядом черт, среди которых одной из ведущих является непрофессионализм: руководящие функции делегируются человеку вне наличия у него профессиональных знаний в сфере, которой он должен руководить. Ощущение неполноценности, которое могло бы возникнуть у руководителя, активно преодолевается перераспределением его функций и целей образовательной организации: если раньше это были цели качества образования как практики поддержки развития человека как полноценно функционирующей личности, то сейчас образование рассматривается как бизнес, занятый подготовкой некой «конкурентоспособной» и «компетентной», потребляющей и предназначенной для потребления биосоциальной единицы («человеческого капитала») или функции («потребителя», «работника одной кнопки» и т. д.).
На непростом пути превращения образования из института культуры в институт бизнеса руководитель современной образовательной организации сталкивается с не всегда сложным для него выбором между образованием, его качеством, и выгодой, в том числе выгодой для себя и своего ближайшего окружения. Очевидно, что, чем более непрофессионален выбирающий, тем в большей степени выбор будет определяться его личными интересами и тем жизненным опытом, который он накопил на пути к становлению менеджером. Непрофессионализм как некомпетентность, в дополнение к общему отсутствию профессиональной и, нередко, национальной идентичности и адекватной задачам образования мотивации труда, проявляется в склонности преследовать и достигать за счет учреждения образования и его ресурсов цели собственного благополучия (экономической наживы, славы и социальных преференций, карьерного роста и чувства собственной важности и превосходства).
К типичному для современных менеджеров конфликту интересов в условиях многочисленных реформ и инноваций их некомпетентность добавляет неоправданные оптимизм, легкомыслие и активность в осуществлении таких псевдоинноваций: он позволяет менеджерам реализовывать предлагаемые им руководством коррумпированной системы образования реформы и псевдоинновации, не испытывая сомнений и не прибегая к рефлексии и, в том числе, к критическому осмыслению предлагаемых и осуществляемых изменений, их ценностей и целей, причин и последствий, угроз и рисков, а не только реальных и фиктивных «выгод» и возможностей.
Реформы и новации оцениваются, в первую очередь, как удовлетворяющие собственные интересы менеджеров, а не интересы образования. Последние системно игнорируются, фиктивные обоснования значимости и результативности новаций, предлагаемые в данных манифестах и форсайтах, принимаются без изменений. Ради достижения своих интересов менеджериализм усиливает коррупционную направленность отношений в современных образовательных учреждениях, средствами мягкой и жесткой коррупции порождая многочисленные нарушения в сфере трудовой деятельности и отношений педагогов, их дидактических и воспитательных взаимодействий со школьниками и студентами. Закрепляя вертикальное взаимодействие (вертикаль власти) и отсекая взаимодействие по горизонтали, менеджериализм порождает деформации:
-
– социальной перцепции (неприятие/эксклюзию, ресентимент/враждебность и мстительность);
-
– коммуникации (многочисленные тайны / запреты обмена информацией, слухи / фейки / намеренную дезинформацию и иные варианты обмана, вплоть до газлайтинга сотрудников и учеников);
-
– интеракции (нормализует отчуждение, конфликты и расправы / «жертвоприношения» в отношениях учителей/преподавателей и школьников/студентов);
-
– интеграции (депрофессионализацию педагогов и школярство учеников, ненависть и насилие/буллинг, дидактогении как результаты деформированных/запутанных, отчуждающих и травмирующих отношений);
-
– ценностных оснований образовательной активности (десакрализацию образования, деформацию духовно-нравственных ценностей, вплоть до безнравственности, оговоров и самооговоров).
Некомпетентность менеджмента, наносящая намеренный вред образованию со стороны разработчиков и проектировщиков модели «устойчивого образования», его всеобщих «манифестов», национальных форсайтов и программ, выступает как одна из важнейших причин и объяснений активно протекающей деструкции образования, его коллапса, вот уже более десятилетия констатирующегося исследователями разных стран, включая Россию.
Помимо идеи «врагов народа», намеренно разрушающей образование и вредящей народу, популярной в CCCР в середине 20-30-х годов ХХ века, это явление объясняют феномен проекции и связанные с ним смысловые искажения: они связывают происходящее с теоретической и практической невозможностью «защиты от дурака» ( idiot-proof ). Примером такого «дурака» выступает затронутое нами ранее «метаисследование», выполненное в обоснование «Манифеста заботливого образования» и многочисленные трудноотличимые по всему миру «форсайты образования» [4]. «Защиты от дурака», как полагают исследователи этого феномена, не существует: ждать, что образование никогда не подвергнется деформациям, нереалистично [19; 20; 21]. В этом контексте Россия нуждается в осознании и преследовании собственных интересов и приоритетов (в отношениях человека и общества, общества и бизнеса, общества и государства). В условиях, когда такие приоритеты нарушены, по невежеству или злонамеренности, образование инволюционирует и коллапасирует, предлагаемые идеи и модели практического, инклюзивного, дистанционного/смешанного, непрерывного образования и т. д. лишь демонстрируют, как происходит эта инволюция. Дискурс капиталистической «рациональности» как дискурс «экономии» усилий и максимизации «выгоды», дискурс потребления себя и мира, коммодификации жизни в целом сводят даже потенциально позитивные процессы прежде всего к их негативным аспектам: это видно и на примере процессов «мультикультурализации» и «глобализации» в образовании, на примере «инклюзивного» и «индивидуального» образования, на примере «заботливого» образования и многих иных современных попыток «совершенствования» образования, либо граничащих, либо прямо предполагающих уничтожение образования.
Это в целом, на фоне десакрализации образования и отношений между старшими и младшими поколениями, неудивительно: как давно известно, в том числе из «закона или откровения Т. Стерджена» [22, p. 66], работ Ф.-М. Аруэ (Вольтера), Р. Киплинга, Г. Оруэлла, «терапии реальностью» У. Глассера и т. д., «во все времена, во всех странах и во всех жанрах дурное изобилует, а хорошее редко» [23], «быть неудачником просто», так же, как и быть невежей, подлецом и т. д. Зло, деградация, примитивизация, неудачи и разрушение практически не требуют усилий; труд нужен для того, чтобы развиваться, совершенствоваться, создавать, творить добро, достигать успеха. Организуя в рамках образовательной организации собственный фрагмент «вертикали власти», современный менеджер образования встраивается в систему, которая активно нацеливает его прямо противоположно последнему, в ином случае, например, при отказе от расправы с невиновными жертвами (признанными отвлечь внимание от действительно виновных), менеджер теряет свое место и значимость в системе [24; 25]. Здесь можно привести в пример известный феномен преследования «низовой коррупции»: чем более активно в организации работает «верхушечная» коррупционная группировка, тем больше внимания привлекается к «низовой». Это отражается, в частности, и в том интересе, который наблюдается к случаям «низовой» коррупции и в научных ее исследованиях; уголовное наказание, публичный остракизм и иные формы расправы над теми, кто незаконно «украл на копейку» (в том числе иногда и для того, чтобы иметь возможность купить ученикам пособия и иные учебные принадлежности), а «ответил на рубль», широко освещаются, в отличие от преступлений тех, кто, не задумываясь, «ворочает» миллионами [6]. Всё это часто побуждает членов образовательной организации прибегать к иным методам борьбы за справедливость и исправление сложившейся в организации ситуации, в том числе к доносительству.
Заключение
Борьба с коррупцией в образовании, с ее индивидуальными, организационными и социальными угрозами предполагает в первую очередь возврат к традиционным, существенным и сущностным для образования целям и ценностям, моделям и методикам образова- тельных отношений, а также привлечение к управлению образовательными организациями профессионалов, включенных в диалогическое взаимодействие друг с другом и иными субъектами и стейкхолдерами образования. Образование – сфера, в которой достигшие самореализации и самоактуализации педагоги оказывают поддержку в развитии (самоактуализации и самореализации) своим ученикам.
Список литературы Социально-психологические аспекты коррупционных угроз безопасности в современном образовании
- Dernbach J. C., Cheever F. Sustainable development and its discontents // Journal of Transna-tional Environmental Law, Forthcoming. Digital Commons @ DU, 2015. URL: https://digitalcommons.du.edu/law_facpub/19 (дата обращения: 21.11.2021)
- Hughes C. Educating for the twenty-first century: seven global challenges seriam // IBE on Curriculum, Learning, and Assessment. Boston: Brill; UNESCO IBE, 2018. Vol. 3. 180 p. URL: https://doi.org/10.1163/9789004381032 (дата обращения: 21.11.2021).
- Making the Sustainable University. Trials and Tribulations / eds. K. Leone, S. Komisar, E. M. Everham III. New York: Springer, 2021. 340 p.
- Hamilton A., Hattie J. The lean education manifesto: a synthesis of 900+ systematic reviews for visible learning in developing countries. New York, 2022. 300 p.
- Макаренко А. С. Марш тридцатого года. М.: Просвещение, 1988. 288 с.
- Дамм И. А. Коррупция в сфере образования: понятие, характерные черты, формы и виды // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 4. С. 5–17.
- Graf H.-W. Korruption: Die Entschlüsselung eines universellen Phänomens. Fouque Literaturverlag. Germany, Frankfurt am Main: Fouqué Literaturverlag, 2000. 650 s.
- Сулакшин С. С., Багдасарян В. Э., Вилисов М. В. Нравственное государство. От теории к проекту / под общ. ред. С. С. Сулакшина. М.: Наука и политика, 2015. 424 с.
- Федоренко Е. Ю. Психологический взгляд на коррупционное поведение // Актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере образования: сб. науч. ст. по материалам IV Сибир. антикоррупционного форума, Красноярск, 26–27 декабря 2018 г. / отв. ред. И. А. Дамм, Е. А. Акунченко; Сибир. федер. ун-т. Красноярск, 2019. С. 48‒54.
- Конышев В. Н., Сергунин А. А. Система индикаторов вузовской коррупции (гипотеза) // Экономика образования. 2012. № 1. С. 119‒123.
- Аллак Ж. Коррумпированные школы, коррумпированные университеты: Что можно сделать? / Междунар. ин-т планирования образования ЮНЕСКО. Париж, 2014. 365 c.
- Ильин Г. Л. О бюрократизации и коррупции в отечественном образовании // Школьные технологии. 2012. № 6. С. 9‒17.
- Левитес Д. Г. Управление образованием как область регулирования конфликтов интересов (опыт постановки проблемы) // Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2008. № 1. С. 84‒100.
- Михеев В. А. Новации и конфликты в системе высшего образования современной России // Конфликтология. 2014. № 3. С. 176‒191.
- Heidenheimer A. Campaign finance and political corruption: tracing long-term comparative dynamics (Paper presented at the XVIII World Congress of the IPSA. World Capitalism, Governance and Community: toward a corporate millennium? Canada, Quebec, August, 1‒5) // Political Corruption. Concepts & Contexts / eds. by A. I. Heidenheimer, M. Lohnston. London: Routledge, 2002. P. 640‒655.
- Шедий М. В. Типология коррупции и основные модели коррупционных стратегий поведения // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: Философия. Социология. Право. 2011. № 8. Вып. 16. С. 86‒96.
- Ванновская О. В. Психология коррупционного поведения государственных служащих. Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. СПб., 2019. 251 с.
- Богодухова Е. М., Гордиенко В. Г. Психологические механизмы коррупционного поведения личности [Электронный ресурс] // Концепт: науч.-метод. электрон. журнал. 2017. Т. 44. С. 1–23. URL: http://e-koncept.ru/2017/570134.htm (дата обращения: 22.02.2022).
- Asimov I. Search for Magicians // Asimov I. Foundation and Empire. New York: Bantam Dell, A Division of Random House, Inc., 1952. 300 р.
- Gelman A. A. Clarke's Law: Any sufficiently crappy research is indistinguishable from fraud // Statistical Modeling, Causal Inference, and Social Science. 2016. 20 June. P. 1. URL: https://statmodeling.stat.columbia.edu/2016/06/20/clarkes-law-of-research/ (дата обращения: 22.02.2022)
- Rubin Ch. T. What is the good of transhumanism? // Medical Enhancement and Posthumanity / eds. Ch., Ruth, G. Bert. London: Springer, 2008. 280 р.
- Sturgeon Th. Books: on hand // Venture Science Fiction. 1958. Vol. 2, no. 2. P. 66‒70.
- Arouet Fr.-M. (Voltaire). Le monde comme il va [The world as it goes] / ed. d'Étienne Buraud. New York: Nathan, 2019. 48 p.
- Арпентьева М. Р. Проблема социального порядка и насилие в школах // Проблемы современного образования. 2016. № 5. С. 39‒49.
- Жирар Р. Козел отпущения / предисл. А. Эткинда. СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2010. 336 с.