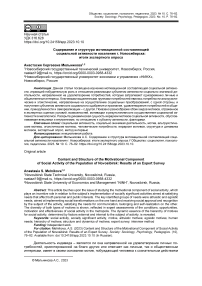Содержание и структура мотивационной составляющей социальной активности населения г. Новосибирска: итоги экспертного опроса
Автор: Мельникова Анастасия Сергеевна
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 10, 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена изучению мотивационной составляющей социальной активности, играющей побудительную роль в отношении реализации субъектом активности социально значимой деятельности, направленной на удовлетворение потребностей, которые затрагивают одновременно личные и общественные интересы. Ключевыми выделенными группами потребностей явились потребности альтруистические и эгоистические, направленные на осуществление социальных преобразований, с одной стороны, и получение субъектом активности социального одобрения и признания, удовлетворения потребностей в общении, принадлежности и самореализации - с другой. Показано разнообразие обоих видов мотивов, отраженное в экспертных оценках условий, возможностей, мотивации и результативности осуществления социальной активности в мегаполисе. Раскрыта динамическая сущность иерархии мотивов социальной активности, обусловливаемая внешними и внутренними, по отношению к субъекту активности, факторами.
Социальная активность, социально значимая деятельность, мотив, альтруистические мотивы, эгоистические мотивы, человеческие потребности, иерархия мотивов, структура и динамика мотивов, экспертный опрос, метод интервью
Короткий адрес: https://sciup.org/149143966
IDR: 149143966 | УДК: 316.628 | DOI: 10.24158/spp.2023.10.10
Текст научной статьи Содержание и структура мотивационной составляющей социальной активности населения г. Новосибирска: итоги экспертного опроса
1Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия, ,
1Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia, , 2Novosibirsk State University of Economics and Management “NINH”, Novosibirsk, Russia,
и поступкам. Сложность анализа мотивов деятельности обусловлена полимотивированностью, трансформацией структуры иерархии мотивов, неочевидностью отдельных мотивов деятельности для субъекта или нежеланием их признавать и др. Исследование мотивов деятельности дает понимание процесса превращения интереса в фактор действия, объясняет стремление деятельного субъекта к ликвидации несоответствия условий существования его потребностям и представлениям о должном. Такая исследовательская цель приобретает особое значение, когда речь идет о деятельности, результатом которой являются социальные изменения. В рамках данной работы обратимся к исследованию мотивов деятельности, имеющей социально полезные результаты, – социальной активности.
Одним из наиболее разработанных подходов к трактовке понятия «социальная активность» является ее рассмотрение как осознанной, определенным образом мотивированной и саморегули-руемой деятельности, направленной на решение общественно значимых задач. Специфика социальной активности состоит из присущих ей свойств: сознательности, самодетерминированности, целенаправленности, наличия созидательного начала. Обращаясь к исследованию структуры социальной активности, Ф.А. Батурин разграничивает мотивационно-целевой элемент наряду с физической дееспособностью, осведомленностью о специфике реализуемой деятельности, процессом деятельности как таковым (Батурин, 1984). Р.М. Шамионов выделяет когнитивный, эмоционально-оценочный, мотивационно-волевой и поведенческий компоненты социальной активности (Шамионов, 2018). В.И. Овчинников, Ю.В. Шмарион включают в структуру социальной активности готовность субъекта к ее реализации, акцентируя внимание на активно-побудительном отношении личности к решению социально значимых вопросов, внутриличностном вызревании деятельности (Овчинников, 1980; Шмарион, 2021). Указанные вариации структуры социальной активности схожи в аспекте ряда компонент, в частности – выделении мотивационной составляющей.
Мотив – отправная точка действия и деятельности как развертывающегося процесса. А.И. Балог понимает под мотивами социальной деятельности «определённые осознанные причины, по которым человек, социальная группа выступают в качестве субъекта какой-либо социально значимой деятельности» (Балог, 2015).
Чаще всего мотив рассматривают в рамках той или иной конфигурации с потребностями. Е.С. Соколова выделяет подструктуру потребностей в структуре мотивов социальной активности (Соколова, 2008). Указанная составляющая структуры мотивов обусловливает активное отношение человека к испытываемой им нужде и необходимости преобразования условий с целью ее удовлетворения, является своеобразным «источником энергии» активной деятельности. И.В. Троцук и К.Г. Сохадзе относят к движущим мотивам социальной активности, прежде всего, социально значимые потребности (Троцук, Сохадзе, 2014). Наиболее распространенным подходом является рассмотрение мотива как опредмеченной потребности, требующей удовлетворения в рамках активной направленной деятельности1. Сам процесс трансформации потребности в мотив сопровождается и характеризуется, во-первых, осознанием причин, «по которым человек, социальная группа выступает в качестве субъекта какой-либо социально значимой деятельности» (Балог, 2015), во-вторых, получением представления о том объективном «в чем эта потребность конкретизируется в данных условиях и на что направлена деятельность» (Леонтьев, 1972), в-третьих, «осознанием предмета, который удовлетворит неосознанную нужду индивида в чем-либо» (Григорьева, 2018). Таким образом, цепочка опредмечивания потребности, как процесс выхода из диффузного состояния дискомфорта, обусловленного потребностью, завершается реализацией осознанной, целенаправленной, саморегулируемой деятельности.
Получению комплексного представления о совокупности мотивов, лежащих в основе социальной активности, как целенаправленной, осознанной и преднамеренной деятельности, их содержанию, анализу структурных и динамических характеристик, посвящена данная работа.
Основу исследования составляют результаты экспертного опроса, проведенного в июле-сентябре 2022 г. методом интервью и направленного на выявление условий, возможностей, мотивов и результативности осуществления социальной активности в мегаполисе. В качестве экспертов выступили социально активные жители г. Новосибирска, реализующие свою активность в социально-политической, гражданско-правовой, экономической, экологической, образовательно-развивающей, досуговой и пр. сферах. Всего опрошено 33 человека, возраст которых варьируется в диапазоне от 19 до 70 лет; среди опрошенных 10 мужчин и 23 женщины. Средняя длительность интервью составила 50 мин. Аудиофайлы (результаты) интервью были транскрибированы, осуществлено выделение смысловых единиц текста сообразно цели исследования.
Рассматривая социальную активность как общественно значимую деятельность, обратимся, в первую очередь, к содержательному рассмотрению мотивов, в основе которых ориентация субъекта деятельности на удовлетворение общественных интересов. Такая деятельность побуждается альтруистическими мотивами и направлена на удовлетворение потребностей общества, реализуется во благо других людей и общества в целом. Иначе данный тип мотивов именуют как гуманистические (Григорьева, 2018) или общественные (общественно ориентированные) (Левшина, Лунин, 2015), просоциальные (Брессо, 2013). Речь идет о желании оказать помощь другому человеку напрямую (акт непосредственной заботы о других людях) или в рамках реализации какой-либо задачи (благотворительные взносы, материальная (продовольственная) помощь и пр.). Характерными особенностями данного типа мотивов являются эмоциональное сопереживание, эмпатия, высокий уровень помогающего поведения. По мнению М.С. Перминовой, такой мотив «просматривается в сочувствии, в стремлении опекать, утешать, защищать, заботиться и исцелять тех, кто в этом нуждается» (Перминова, 2016): Будучи больничным клоуном, я прихожу в больницу к детям менять настроение. Прихожу с радостью. Даже в сложный год, когда мы выработались, были на пределе, мы не могли не выходить, зная, что дети ждут... я иду менять атмосферу, где плохо -там должно быть хорошо (жен., 51 год).
Смежная группа мотивов базируется на потребности в удовлетворении чувства сопричастности к социально значимому делу, стремлении изменить мир, изменить общественное мнение по какому-либо вопросу, способствовать становлению социальной справедливости: Наступает определенный этап жизни, когда имеющиеся знания и навыки, наработанный опыт хочется воплотить в какие-то результаты, но не только для себя, но на благо города, в котором я живу, в котором растут мои дети (муж., 47 лет). Вариациями подобного вида мотивов является переход от «возможного» (суждения вида «в моих силах изменить / улучшить ситуацию») к «должному» (суждения вида «это мой моральный долг») – осознание общественного долга, потребность служения обществу. Так, Б.П. Ильин отмечает, что просоциальное поведение человека связано с двумя мотивами: морального сочувствия и морального долга, обязательства или благодарности1. Тема долженствования прямо или косвенно звучала в ответах респондентов: Одна из самых ценных мотиваций - когда приходят отдать социальный долг. Это люди, которые когда-то где-то столкнулись с определенной проблемой. Им помогли или, наоборот, не помогли, но они знают, что эта проблема есть и ее надо решать (жен., 32 года). Такие мотивы можно назвать идеалистическими , порождаемыми, кроме прочего, чувством социальной солидарности и групповой идентичности.
Вместе с тем, детерминанты просоциального поведения не всегда обладают исходным позитивным импульсом. Негативное обусловливание социальной активности внешней, по отношению к субъекту, средой может выражаться в необходимости подчинения определенным требованиям или угрозе. При этом субъект осуществляет особый вид социальной активности, именуемый отдельными исследователями как навязанная (псевдоактивность)2 или активность, реализуемая формальным (символическим) актором (Щемелева, 2019), в рамках которой нивелируются такие черты истинно социальной активности, как самодетерминируемость, инициативность, наличие созидательного начала. Примером является деятельность добровольно-принудительного характера (участие в благотворительности, субботниках, общественных мероприятиях, стимулируемое, к примеру, руководством), а также активность, продиктованная «неловким положением или собственным дискомфортом, избавиться от которого можно либо путем оказания помощи, либо выйдя из этой ситуации» (Брессо, 2013) или обусловленная мнением значимых для субъекта активности людей, общественной оценкой в целом. Подобные мотивы активности направлены не столько на общественные интересы, сколько на минимизацию отрицательных эмоций и переживаний субъекта. В целом, мотивы социальной активности, базирующиеся на интересах в первую очередь субъекта действования, и лишь в определенной мере согласующиеся с потребностями и интересами общества, формируют группу эгоистических мотивов социальной активности. Иначе такие мотивы называют прагматичными (в противовес идеалистическим) (Сушко, Серга, 2017), индивидуалистическими (в пару к гуманистическим) (Григорьева, 2018), личностными (личностно-ориентированными) (Касьянова, 2020).
Сущностные характеристики эгоистических мотивов социальной активности могут быть описаны с использованием постулатов теории социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау). Соответствующая деятельность стимулируется стремлением субъекта к получению материальной или нематериальной выгоды прямым или косвенным путем: Желание помочь - это про трату ресурса, но человек не так устроен, он не может только отдавать, но должен и получать, иначе он просто сгорит (жен., 34 года). При этом, как отмечает М.С. Перминова, ставится под сомнение возможность существования «чистого» альтруизма, когда помогаешь другим даже в том случае, если тебе самому это невыгодно (Перминова, 2016): В каждом из нас присутствует эгоист и альтруист, важно найти баланс между их потребностями. Когда ты помогаешь другим, получаешь за это искреннюю благодарность, испытываешь от этого приятные эмоции, то твой внутренний эгоист тоже счастлив (муж., 35 лет).
Учитывая разнообразие исходных стимулов, потребностей и интересов человека, можно констатировать существенную вариативность эгоистических мотивов социальной активности. Одни из первых, отмечаемых респондентами, – мотивы коммуникации , основанные на потребностях в социальных связях и отношениях, общении, самоидентификации. Это также мотивы формирования дружеских отношений, поиска группы, которая понимает и принимает преодоления социальной маргинальности, чувства одиночества, отверженности: К нам много приходит людей, которых где-то обижали, они приходили в сообщества, но их не приняли и так несколько раз. Но этим ребятам нужен круг общения, друзья. В конце концов, они пришли в волонтерство. Это подходит всем, у нас нет ограничений, важно желание помогать и не делать чего-то не соответствующее нашим ценностям (жен., 32 года).
Смещение фокуса значимости с потребностей в общении и привязанности на потребности в признании (как члена группы, профессионала, наставника, куратора и пр.), уважении со стороны других, достижении успеха формирует престижные (статусные) мотивы социальной активности: Эта деятельность, хоть она напрямую и не относится к моей работе, подарила мне новый круг общения и признание меня как эксперта, профессионала (муж., 32 года).
Опираясь на постулаты эволюционной и социальной психологии С. Кафашан, А. Спаркс, О. Олагбеги и др. связывают просоциальное поведение людей с проявлением эволюционно заложенного стремления к повышению статуса, ассоциируемого с более широким доступом к ресурсам и партнерам (Kafashan et al., 2014; Olagbegi, 2021). По оценкам исследователей, просо-циальная стратегия восхождения по статусной иерархии обеспечивает укрепление положительной репутации и социального положения внутри группы, получение доступа к материальным и социальным вознаграждениям, выживание и репродуктивный успех: Школьники сейчас очень любознательные, в их возрастной категории, а также в студенческой среде, вообще не модно сейчас быть пассивным. Надо быть активным. Это априори. Совсем скоро будет так, что если ты не активен, то ты - белая ворона (муж., 35 лет).
Потребность в общении, новых знакомствах, групповой принадлежности, дополняемая стремлением к самопрезентации, профессиональному признанию и вхождению в статусные социальные круги, формирует мотивы приобретения полезных социальных контактов . Респонденты отмечают несомненную пользу расширения социальных связей: Мне нравится расширение круга знакомств. Это очень полезная вещь. Бог знает, кто кому в жизни пригодится, и кто где работает... Полезные и интересные знакомства - это, наверное, самое главное, почему я продолжаю быть активистом (муж., 25 лет).
Реализация практической деятельности зачастую перерастает в получение профессионального опыта работы в определенной сфере, что выводит на первый план карьерные мотивы . Значимые, прежде всего для молодежи, мотивы обеспечения актуального или перспективного карьерного роста, воплощаются в деятельности, дающей возможность бесплатного обучения на различных курсах, тренингах, получении рекомендаций для трудоустройства, приобретении ряда навыков, важных для исполнительской деятельности и ответственного лидерства (Сушко, Серга, 2017): Основная задача членов молодежного парламента - получить карьерные наработки, знакомства, бэкграунд в общественной и политической деятельности (муж., 20 лет).
Заинтересованность в карьерном росте, как одном из результатов реализации общественно значимой деятельности, связана, как правило, с более обобщенной целью саморазвития . В рамках этого возможно выделение когнитивных мотивов , выражающих заинтересованность в освоении новых навыков, получении общих и специализированных знаний, расширении кругозора: Есть люди, которые приходят самообразовываться. Через добровольчество можно разные навыки развить, например, в сфере журналистики, в социальном секторе, политике (жен., 32 года). Сопряженные с рассмотренными, мотивы личностного роста (самосовершенствования) отражают нацеленность субъекта социальной активности на движение к личностной зрелости (целеустремлённость, внутренняя целостность, принятие себя и окружающих, построение конструктивных социальных взаимоотношений и пр.), самоактуализации (реализация личностного потенциала), обретению себя и своего жизненного пути (Суркова, 2014): По сравнению с тем, какой я была 1012 лет назад, я вижу изменения, насколько я стала включенной и внимательной к другим, терпимой к поведению других, может даже чуть более ответственной (жен., 41 год).
Достижение определенных целей (в том числе, а иногда и главным образом, социально значимых), положения, статуса, с побочным результатом в виде социального одобрения и признания, внутренней удовлетворенности собой и продуктом своей активности, становится возмож- ным, как правило, в процессе реализации деятельности близкой, значимой для субъекта, в которой он себя выражает. Речь идет о мотивах самореализации, выражающихся в стремлении к проявлению индивидуальности и самостоятельности, реализации своей сущности. Это и самовыражение, раскрытие свойств личности: ...есть просто неравнодушные - люди, которым до всего есть дело. Они никогда не пройдут мимо проблемы просто так (жен., 65 лет), и реализация мечты детства: ... моя активность в рамках проблемы защиты животных - это, скорее, проявление детской нереализованной мечты - поступить учиться на кинолога (муж., 32 года) и желание обучить, передать опыт, знания и многое другое.
Социальный и когнитивный мотивы социальной активности могут быть дополнены обычно неочевидными и, возможно, даже не до конца осознаваемыми самим субъектом, мотивами психофизиологического характера (укрепление физического и психического здоровья, снижение риска возникновения депрессии, увеличение продолжительности жизни и пр.), которые, однако, являются особенно значимыми для лиц старшего возраста (Takashima et al., 2020; Mackenzie, Abdulrazaq, 2021).
Крайняя степень выраженности эгоистических мотивов социальной активности может быть приписана мотивам материальным , предполагающим нацеленность субъекта на получение выгоды в материально-вещественной или денежной форме. Данный мотив практически невозможно рассматривать в качестве ключевого вследствие обычно низкой ценности выплат в абсолютном выражении: Мне, как председателю ТОСа, выплачивают субсидию - примерно пять тысяч рублей в месяц. Эти деньги почти целиком уходят на проезд, телефонные звонки, подарки участникам наших конкурсов и мероприятий. Вознаграждения, а тем более зарплаты, по сути, нет (жен., 63 года). Зачастую более привлекательным является символическое значение такого типа поощрения, способствующее демонстрации принадлежности к группе и, одновременно, выделению в общей массе: Я собираю коллекцию кружек и как ребенок, счастливая, вот с этой кружечкой с мероприятия, еду домой. А потом, когда наливаю в нее гостям чай, рассказываю, что мы такое организовывали нашим штабом и люди слушают с интересом, узнают больше о нашей деятельности (жен., 20 лет).
Таким образом, наблюдается весьма существенная вариация мотивов социальной активности, относящихся к двум основным группам – альтруистические и эгоистические, выделяемые по принципу ориентации субъекта активности на удовлетворение социальных или личных потребностей. В реальности, однако, имеет место их сочетание, описываемое явлением полимотивированности. Данный подход к анализу структуры мотивов социальной активности можно определить как «горизонтальный», в противовес «вертикальному», предполагающему анализ в разрезе иерархии. В разные моменты времени одни мотивы могут иметь большую значимость для субъекта в сравнении с другими. По оценкам экспертов, одним из наиболее мощных стимулов активности является стрессовая ситуация, проблема, затрагивающая интересы субъекта активности, результаты решения которой, кроме прочего, характеризуются положительным социальным эффектом. Однако мотивы, порождаемые потребностями в безопасности, комфорте, стабильностью по итогу их реализации, могут замещаться мотивами иного порядка, базирующимися на стремлении передачи опыта результативного действования, продолжения борьбы со старым врагом на новом фронте (муж., 41 год). Так проявляется динамическая сущность иерархии мотивов социальной активности, обусловливаемая внешними и внутренними, по отношению к субъекту активности, факторами.
Действительно, с одной стороны в ответах респондентов прослеживается отсылка к моделирующему воздействию среды, оказываемому на социальную активность граждан как в позитивном, так и в негативном ключе: Сейчас менталитет такой или люди по-другому воспитаны, что на субботники выходить не хотят. Они считают, что это уже архаизм какой-то, что оплачиваться все это должно, что дворникам оплачивают, вот пусть они идут и убирают (жен., 63 года); Людей, которые рассуждают, что «я работаю на своей работе, зачем буду делать еще чужую», говорящих, «какая зеленая повестка, что вы тут ерундой страдаете» их становится все меньше ... Это вопрос культуры, но и прогресса, имеющего общий тренд на экологичность жизнедеятельности (муж., 25 лет). С другой стороны - указание на значимость доминирующей в обществе системы социокультурных ценностей, усваиваемой личностью в процессе социализации: Изначально, когда ребенок растет, формируется, то у него возникает некоторый набор ценностей и идеалов. В этот момент мне оказались подкинуты несколько десятков очень хороших книг, где люди занимались экологическим активизмом, где Жак-Ив Кусто спасает касаток, где Джой Адамсон спасает львов в недрах Кении. Когда много такого читаешь, у тебя тоже возникает желание жить не только своей индивидуальной жизнью (жен., 35 лет). Меняющиеся социальные условия, накапливаемый субъектом опыт реализации активности и выстраивания коммуникаций, личностные изменения и трансформация структуры потребностей обусловливает динамические изменения иерархии мотивов социальной активности.
Таким образом, мотивационная составляющая социальной активности индивида, определяющая вектор его социального поведения, одновременно носит интегративный характер в части удовлетворения потребностей различного уровня и характеризуется факторнообусловленной динамикой, формирующей иерархическую структуру мотивов.
Список литературы Содержание и структура мотивационной составляющей социальной активности населения г. Новосибирска: итоги экспертного опроса
- Балог А.И. Формирование социальной активности молодежи: особенности, структура и мотивы // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 11–1. С. 85–89.
- Батурин Ф.А. Социальная активность трудящихся: сущность и управление / отв. ред. В.И. Бойко. Новосибирск, 1984. 176 с.
- Брессо Т.И. Социокультурные детерминанты просоциальной мотивации // Теория и практика общественного развития. 2013. № 2. С. 70–72.
- Григорьева М.В. Потребностно-мотивационные факторы социальной активности личности в разных условиях социализации // Общество: социология, психология, педагогика. 2018. № 11. С. 35–41. https://doi.org/10.24158/spp.2018.11.6.
- Касьянова Н.Н. Некоторые проблемы формирования жизненной перспективы у студенческой молодежи // Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании: мат. XXI Международ. науч.-практ. конф. СПб., 2020. С. 70–73.
- Левшина А.А., Лунин С.Л. Общественная деятельность молодежи: мотивы участия // Российский психологический журнал. 2015. № 2. С. 55–65. https://doi.org/10.21702/rpj.2015.2.6.
- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики / под ред. Г.П. Зиновьевой. 3-е изд. М., 1972. 563 c.
- Овчинников В.И. Потребности личности как фактор её социальной активности // Социальная активность и духовное богатство личности. Волгоград, 1980. 157 c.
- Перминова М.С. Специфика формирования социальной активности молодежи в условиях волонтерской деятельности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2016. Т. 16, № 1. С. 22–25. https://doi.org/10.18500/1818-9601-2016-16-1-22-25.
- Соколова Е.С. Структурный подход к пониманию мотивации социальной активности молодежи // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 2. C. 18.
- Суркова Е.Г. Сущность понятия «личностный рост» в современной психологии (системный подход) // Акмеология. 2014. № 3 (51). С. 58–65.
- Сушко Н.Г., Серга Е.Д. Особенности мотивации волонтерской деятельности // Ученые заметки ТОГУ. 2017. Т. 8, № 1. С. 363–368.
- Троцук И.В., Сохадзе К.Г. Социальная активность молодежи: подходы к оценке форм, мотивов и факторов проявления в современном российском обществе // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2014. № 4. С. 58–74.
- Шамионов Р.М. Социальная активность личности и группы: определение, структура и механизмы // Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2018. Т.15, № 4. С. 379–394. https://doi.org/10.22363/2313-1683-2018-15-4-379-394.
- Шмарион Ю.В. Готовность молодежи к социальной активности: социально-технологический подход // Человек. Общество. Наука. 2021. № 1 (1). С. 76–94. https://doi.org/10.53015/2686-8172_2021_1_76.
- Щемелева И.И. Социальная активность студенческой молодежи: факторный и кластерный анализ // Социологические исследования. 2019. № 4. С. 133–141. https://doi.org/10.31857/S013216250004594-6.
- Mackenzie C.S., Abdulrazaq S. Social engagement mediates the relationship between participation in social activi- ties and psychological distress among older adults // Aging & mental health. 2021. Vol. 25, no. 2. Рp. 299–305. https://doi.org/10.1080/13607863.2019.1697200.
- Olagbegi O. The Relationship Between Status Motives and Social Activism // Honors Theses. Hattiesburg, 2021. 31 p.
- Prosocial behavior and social status // The Psychology of Social Status / S. Kafashan [et al.]; ed. by J.T. Cheng, J.L. Tracy, C. Anderson. 2014. Pp. 139–158. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0867-7_7.
- The values and meanings of social activities for older urban men after retirement / R. Takashima [et al.] // PloS One. 2020. Vol. 15, no. 11. Pp. e0242859. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242859.