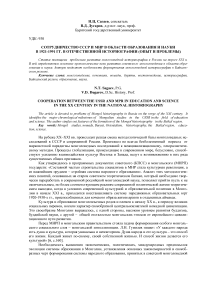Сотрудничество СССР и МНР в области образования и науки в 1921-1991 гг. в отечественной историографии (опыт и проблемы)
Автор: Сагаев Н.Ц., Дугаров В.Д.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 3 (38), 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблемам развития монголоведной историографии в России на пороге XXI в. В ней определяются основные хронологические вехи развития советского монголоведении в области образовании и науки. Авторы выделяют особенности формирования монголоведной историографии в Байкальском регионе.
Монголоведение, кочевники, номады, буряты, востоковедение, историография, байкальский регион, образование, наука
Короткий адрес: https://sciup.org/142148109
IDR: 142148109 | УДК: 930
Текст научной статьи Сотрудничество СССР и МНР в области образования и науки в 1921-1991 гг. в отечественной историографии (опыт и проблемы)
На рубеже XX–XXI вв. происходит резкая смена методологической базы монголоведных исследований в СССР и современной России. Произошел не всегда безболезненный переход от марксистской парадигмы монголоведных исследований к межцивилизационному, плюралистическому методам. Процессы глобализации, происходящие в современном мире, безусловно, способствуют усилению взаимодействия культур Востока и Запада, ведут к возникновению в них ряда существенных общих признаков.
Как утверждалось в программных документах советского (КПСС) и монгольского (МНРП) государств: «Составной частью строительства социализма в МНР стала культурная революция, а ее важнейшим орудием – стройная система народного образования». Анализ этих методологических понятий, основанных на старом советском теоретическом багаже, который необходимо творчески переработать в современной российской монголоведной науке, позволяет прийти пусть к не окончательным, но более соответствующим реалиям современной политической жизни теоретическим выводам, когда в условиях современной культурной и образовательной политики в Монголии в начале XXI в., приходится восстанавливать систему передвижных образовательных юрт 1920-1930-х гг., приспособленных для кочевого образа жизни аратов в отдаленных аймаках.
Культура и образование монголоязычных родов и племен к началу XX в., к периоду великих социальных перемен, носили характер своеобразной центральноазиатской номадной цивилизации. Это своеобразие Монголии выражалось, с одной стороны, высоким уровнем развития буддизма, буддийской науки, с другой – общей отсталостью монгольских этносов от европейского цивилизационного пути развития.
Перед МНРП и монгольским правительством стояла задача формирования особого монгольского социального слоя – монгольской интеллигенции. Л.Н. Гумилев пишет: «У каждого народа есть душа и культура, которая уникальна и неповторима. Душа народа и его культура – это способ его жизни. Каждый живет по-своему, своей собственной жизнью. И способ жизни делается его культурой» [6, с.160].
Необходимость выяснения экономических, политических, международных предпосылок эволюции системы образования в Монголии, установления основных закономерностей и своеобразных черт формирования системы народного образования, принятых в советской монголоведной историографии, является составляющей чертой отечественной российской историографии. При этом выделение проблем школьного образования – главного звена системы народного образования – одна из ведущих проблем российской монголоведной историографии.
Советская монголоведная историография не отрицала, но в то же время формировала своеобразное методологическое понятие, как национальная культура монголов и бурят. Основное значение понятия «национальная культура» ограничивалось сферой «народного творчества» – фольклором, песнями, танцами, художественным оформлением всей бытовой среды «аратских масс». Все это было идеологически и теоретически квалифицированно обосновано и закреплено в партийных документах КПСС и МНРП.
На пороге XXI в. в современном обществе речь, по сути, идет о новом понимании своеобразия национальной, духовной культуры различных народов центральноазиатских стран. Как отмечает К.М. Герасимова: «В монгольском и бурятском обществе XVIII–XX вв. развивались и взаимодействовали три исторических типа культуры, сформированные социальными и духовными потребностями родового строя, феодальных общественных отношений, общества нового времени – периода становления буржуазной цивилизации. Наконец, 70 лет существования советского общества со своей культурой и антикультурой принесли свои плоды… Можно дискредитировать марксизм и атеизм, отказаться от догматов официальной партийной идеологии, но нельзя отменить глубокие преобразования культуры, произошедшие в период новой и новейшей истории общества» [2, с.25].
В период господства советской историографии нарушалась сложная диалектика общего и особенного, национально-специфическое (монголоязычное) как бы растворялось в мировом историко-культурном развитии, что имело и положительные, и отрицательные черты. Эти процессы по объективным и субъективным причинам находили свое, иногда исковерканное отражение в советской монголоведной историографии.
В советском монголоведении с партийных, идеологических позиций рассматривались вопросы участия советского и монгольского обществ в интеграционных процессах в рамках стран лагеря социалистического содружества, СЭВ. Большое внимание уделялось межпартийному сотрудничеству КПСС и МНРП в развитии образования, науки и культуры Монголии как важнейшему идеологическому рычагу в формировании братской дружбы советского и монгольского народов. Эти контакты развивались по линии общественно-политических организаций дружбы и сотрудничества, установления прямых дружеских связей между советскими и монгольскими гражданами, особенно приграничных регионов.
XX век дал значительный толчок развитию планетарных востоковедных исследований. Крупнейший историограф мирового монголоведения 2-й половины XX в. М.И. Гольман на законных основаниях и методологически верно выдвигает свою историографическую градацию отечественного монголоведения XX века: «…всю эту историческую литературу можно рассматривать по трем периодам: 1900-1920-е гг. – период «пробуждения Азии», вхождения Монголии в XX в. и восстановления монгольской государственности; 1920-1980-е гг. – период существования СССР и МНР; 1990-е гг. – начало XXI в. Историография Монголии трех четвертей XX в. уже достаточно хорошо изучена и освещена, чего нельзя сказать о современной литературе, тем более что она знаменует начало качественно нового этапа в изучении истории Монголии, в том числе и XX в.» [4, с.52].
В современных условиях в отечественном востоковедении методологического анализа требуют процессы развития советского периода (1921 – нач. 1990-х гг.) отечественной монголоведной историографии, периода интенсивного развития интеграционных научных связей между учеными–востоковедами СССР и МНР. При таком подходе нарушается сложная диалектика общего и особенного, национально-специфическое (монголоязычное) как бы растворяется в мировом историко-культурном развитии.
Научный поиск адекватного по геополитическим деяниям исторического места для монголоязычных народов в мировой истории, достойное место которого в XX в. не получало своего признания, привел к тому, что начиная с 1990-х гг., в рамках международной программы истории номадов в России под эгидой Института монголоведения, буддологии, тибетологии, под руководством д-ра ист. наук, профессора, члена-корреспондента РАН Б.В. Базарова активно развивается методологическая теория «Взаимодействие кочевых, земледельческих и индустриальных цивилизаций Северной, Восточной и Центральной Азии», дополненная Программой фундаментальных исследований в рамках приоритетных направлений Сибирского отделения РАН «Кочевые, земледельческие и индустриальные цивилизации Северной, Восточной и Центральной Азии: традиции и преемственность в современных взаимодействиях».
Б.В. Базаров с коллективом института выступил инициатором международного проекта «История и культура монгольских народов», организатором и участником комплексной международной экспедиции совместно с учеными Монголии и Китая «Трансформация кочевых сообществ Центральной Азии в XX в.».
В разработке этого направления, с привлечением квалифицированного отряда мировых «кочевников ед ов», отмечаются определенные достижения, о чем свидетельствует проведение ряда международных научных конференций и издание трех фундаментальных сборников : «Монгольская империя и кочевой мир» (2004, 2006, 2008 гг.) и выход монографии «Империя Чингис-хана» российских ученых Н.Н. Крадина и Т.Д. Скрынниковой (2006 г.), других материалов, нашедших самый живой научный интерес среди профессионалов-ориенталистов.
Современное российское востоковедение поставлено перед решением следующих аналитических направлений востоковедной работы:
-
- теоретические и методологические проблемы цивилизационного подхода, разработка единого понятийного аппарата, принципов классификации различных цивилизаций и др.;
-
- роль и судьба различных цивилизаций, в том числе и кочевой, в условиях современного научно-технического прогресса и глобализации международной жизни; возможности их использования для трансформации кочевого хозяйства стран (Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Иран, Афганистан, Сомали и др.) и образ жизни кочевников;
-
- особенности современного номадизма и кочевой цивилизации Монголии, а также культурных наследий кочевой цивилизации в контексте исторических, торговых, экономических, культурных, религиозных и других взаимосвязей кочевых и оседлых народов и их вклад в мировую цивилизацию [5, с. 160].
В период строительства социализма в Советском Союзе и Монгольской Народной Республике, особенно после заключения нового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР в 1966 г., изучение двусторонних взаимоотношений в советском монголоведении приобрело еще большую идеологическую значимость.
Несмотря на большой блок научной теоретической литературы , в новых исторических условиях выявилась недостаточная разработанность собственно понятия «некапиталистический путь развития» как в общетеоретическом плане, так и в специфических чертах его монгольского варианта [3, с. 37-46].
Современная российская монголоведная историография подвергла критическому анализу успехи и достижения марксистской методологии. В первую очередь были поставлены задачи теоретического переосмысления событий прошедшей эпохи. Появились новые концепции истории МНР и советско-монгольских отношений, подчас отстаивающие диаметрально противоположные мнения. Современное состояние отечественного монголоведения характеризуется тем, что процесс осмысления пройденного пути, пересмотра устоявшихся концепций и оценок прошлого породил разноголосицу в исследованиях российских обществоведов [10, с. 8].
В сентябре 1922 г. один из руководителей монгольского Ученого комитета Ц.Ж. Жамцарано обратился в Академию наук, к академику-востоковеду С.Ф. Ольденбургу с официальным письмом, в котором просил РАН рассмотреть возможность научного сотрудничества и оказания помощи Учкому в связи с задачами, стоящими перед новой Монголией [12, с. 65].
Научные кадры для Монголии готовились в основном в Советском Союзе, где для учащихся-монголов были открыты специальные средние учебные заведения: в Иркутске - двухгодичные курсы при педагогическом университете, при Кяхтинском педагогическом техникуме - монгольское отделение, в Ленинграде - Монгольский сектор и рабочий факультет при Восточном институте (до 1928 г. называвшемся Институтом живых восточных языков), в Москве - сектор в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). Монгольская молодежь обучалась также в университете им. Сунь Ятсена [1, с.12].
КУТВ сыграл важную роль в подготовке кадров с высшим образованием для МНР. За годы его существования (до 1936 г.) университет окончили 229 человек [1, с. 13].
Плодотворную работу в Коммунистическом университете трудящихся Востока им . т. Сталина в г. Москве (в период с 1927 по 1937 г.) на научно-педагогической работе проводил один из ли- деров монгольской национально-демократической революции Э.-Д. Ринчино, с ноября 1934 г. ставший профессором КУТВ [9, с. 292].
Необходимость комплексного историографического анализа советско-монгольского сотрудничества в области образования, науки и культуры в период 1921-1991 гг. в советском и российском монголоведении, с его успехами и промахами, на современном этапе вызывается практическими требованиями, поставленными межгосударственными отношениями Российской Федерации и Монголии. Межгосударственная политика российского правительства приходит к пониманию того, что за прошедшие 20 лет развития суверенная Монголия сумела определиться в своей самостоятельной внутренней и внешней политике. Поэтому для разработки современной российской внешнеполитической стратегии в отношении Монголии необходим адекватный анализ истории взаимоотношений двух стран в XX столетии.
Между тем о постепенном восстановлении двустороннего сотрудничества после почти полного его сворачивания в начале 1990-х гг. свидетельствуют двусторонние и многосторонние встречи лидеров двух государств за последнее десятилетие. Среди принятых в эти годы соглашений стоит отметить Улан-Баторскую декларацию, принятую Президентом России В.В. Путиным и Президентом Монголии Н. Багабанди 14 ноября 2000 г. в Улан-Баторе, и последующие договоренности [7].
Московская декларация, подписанная 8 декабря 2006 г. в Москве В.В. Путиным и Президентом Монголии Н. Энхбаяром, продолжила этот процесс [8].
Большим событием в развитии межгосударственных, научных, образовательных, культурноспортивных контактов РФ и Монголии, особенно на приграничном уровне, был визит Президента Монголии Цахиагийн Элбэгдоржа на IV Международный конвент монголов мира, проведенный в г. Улан-Удэ в июле 2010 г. Большое представительство монголов разных стран мира в научнокультурной, спортивной работе этого форума, погружение президента на батискафах «Мир» на дно Байкала – все это подтвердило актуальность взаимодействия монголоязычных народов мира.
В активно развивающемся российском монголоведении необходимо выделить ряд категорийных моментов:
-
– изучить и проанализировать методологические документы КПСС и МНРП, партийную литературу и печать в области межпартийного культурно-образовательного и научного сотрудничества СССР и МНР 1921-1991 гг. в советской исторической науке;
-
– проанализировать ориенталистскую историографию сотрудничества советских и монгольских ученых в период 1921- 1991 гг. в сфере образования и науки;
-
– дать анализ советской историографии культурного сотрудничества СССР и МНР в период 1921-1991 гг.;
-
– проанализировать формирующиеся тенденции в современном отечественном монголоведении в освещении многогранного советско-монгольского сотрудничество в 1921–1991 гг. в области образования, науки и культуры;
-
– при анализе монголоведной советской историографии рассматриваемой проблемы выделять специфические аспекты историографии приграничных регионов двух стран в образовательных, научных и культурных взаимоотношениях, их отражение в современной российской историографии советско-монгольских отношений.
Источниковую базу исследования составляет комплекс опубликованных исследований, посвященных изучению и анализу проблем советско-монгольского сотрудничества в области образования, науки и культуры в 1921- 1991 гг. Он включает в себя следующие группы работ.
-
1. Коллективные обобщающие труды по истории Монголии и советско/российско-монгольских отношений, подготовленные совместными авторскими коллективами отечественных и монгольских ученых-востоковедов при крупных научно-исследовательских учреждениях двух стран. Данные работы обобщали проведенные монголоведные исследования и указывали ориентиры для их дальнейшего направления.
-
2. Научные исследования советско-российских монголоведов, в рамках которых наиболее полно и целостно освещаются авторские концепции и научные подходы к рассматриваемой теме.
-
3. Опираясь на новые методологические принципы, разрабатываемые в российской исторической науке, необходимо провести критический анализ отечественного монголоведения советского периода, сотрудничества народов Советского Союза и Монголии в области образования, науки и культуры. Необходимо без классового, идеологического обоснования рассмотреть насущ-
ные проблемы взаимоотношений двух стран, еще раз вернуться к хорошо себя зарекомендовавшим в советский период мероприятиям, проводимым на уровне «народной дипломатии». Практическая деятельность, проводимая по этим направлениям, ознаменовалась воссозданием в Улан-Удэ в марте 2011 г. Бурятского отделения Общества друзей России и Монголии, которая ранее плодотворно работала и имела свою историю под флагом «Общество советско-монгольской дружбы» и «Общество монгольско-советской дружбы». Возрождаемые и проводимые в рамках международного сотрудничества приграничных регионов РФ и Монголии совместные культурноспортивные мероприятия («Алтаргана», «Голос кочевника», «Шелковый путь», «Чайный путь» и многие другие) настоятельно требуют учета опыта проводимых в советский период мероприятий.
-
4. Обоснование хронологической градации научной монголоведной литературы на два периода: советский и российский, основано на анализе изменений в теории и практике монголовед-ных исследований в зависимости от характера идеологических и социально-политических трансформаций в Советском Союзе/ России и Монголии.
-
5. Необходимость выявления особенностей развития региональных исследований по проблемам взаимоотношений двух стран в области образования, науки и культуры, которые заключаются в обосновании развития традиционно тесных связей приграничных регионов и вовлечения их в интеграционные процессы между СССР и МНР, – насущная задача российского монголоведения.
-
6. Анализ характерной специфики отечественной историографии рассматриваемой проблемы позволяет определить основные направления и перспективы дальнейшего изучения россий-ско/советско-монгольских отношений, дать новые импульсы в расширяющихся российско-монгольских отношениях, особенно в области культуры, образования и науки.
С начала 1990-х гг. российская историография развивается на основе принципов научного плюрализма и многофакторного подхода. Введение в научный оборот в работах современных отечественных монголоведов новых источников, ранее не доступных широкому кругу исследователей, деидеологизация исторической науки вызвали оживленные дискуссии о характере советско-монгольских отношений в 1960-1990 гг. В изучении пригранично-регионального сотрудничества двух стран в российском монголоведении происходит расширение проблемного поля исследований, формируются новые теоретические подходы. В то же время исследование проблем совет-ско/российско-монгольских многогранных отношений, при достаточно широком изучении новейшей истории Монголии в отечественном монголоведении, имеет еще немало белых пятен, разработка которых только началась.
На начальных стадиях изучения находятся такие актуальные вопросы, как политические репрессии в отношении выдающихся деятелей образования, науки и культуры, видных иерархов и мыслителей буддийской церкви; роль бурятских национал-демократов в политических, образовательных, научных, культурных событиях 20-30-х гг. XX в. в Монголии; восстановление духовнокультурного пространства монголоязычных народов, утерянного в годы Советской власти; возрождение духовных и этнических процессов приграничья; повседневная экономическая жизнь приграничных территорий; формирование образа границы в сознании местного населения; изучение проблем трансграничных коммуникаций и процесса охраны границы, и многие другие.