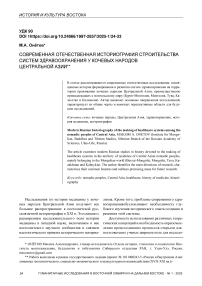Современная отечественная историография строительства систем здравоохранения у кочевых народов Центральной Азии
Автор: Онтов М.А.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 1 (71), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются современные отечественные исследования, посвященные истории формирования и развития систем здравоохранения на территории проживания кочевых народов Центральной Азии, преимущественно принадлежащих к монгольскому миру (Бурят-Монголия, Монголия, Тува, Казахстан и Калмыкия). Автор выявляет основные направления исследований, характеризует их общие черты и намечает перспективные области для будущих исследований.
Кочевые народы, центральная азия, здравоохранение, история медицины, историография
Короткий адрес: https://sciup.org/170209571
IDR: 170209571 | УДК: 90 | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-1/24-33
Текст научной статьи Современная отечественная историография строительства систем здравоохранения у кочевых народов Центральной Азии
Исследования по истории медицины у кочевых народов Центральной Азии получают все большее распространение в постсоветской русскоязычной историографии в XXI в. Это связано с расширением исследовательского поля истории медицины в западной науке, включением в нее постсоветского научного сообщества и снятием идеологического примата исторического материа- лизма. Кроме того, проблемы современного здра-воохраненияобусловливают необходимость глубокого изучения исторического опыта создания и развития этой системы.
Доступность использования различных теоретических концепций и необходимость переосмысления происходивших процессов открыли для постсоветских ученых широкое поле для исследо- ваний в области истории медицины. В отличие от «традиционной» истории медицины, направленной прежде всего на изучение развития медицинского знания, «новая» история медицины помещает медицину и здравоохранение в историкокультурный контекст, направлена на раскрытие их роли в отношениях медицины, государства и общества [3, с. 486]. Традиционно историей медицины занимались сами врачи, в последние годы ее все больше стали изучать непосредственно историки.
Современными отечественными историками написано немало работ, посвященных истории создания и развития систем здравоохранения у кочевых народов Центральной Азии. Объектами исследования при этом являются как сами процессы создания здравоохранения, охватывающие длительные периоды, так и отдельные их аспекты. Учитывая широкий территориальный охват рассмотренных работ, при их анализе в статье применен проблемный подход. Стоит отметить, что в число анализируемых также включены труды зарубежных авторов, например, из Казахстана, поскольку они выполнены на русском языке и методологически близки отечественным работам.
Современная история медицины в России в целом характеризуется тем, что недостаточная степень разработки собственного методологического инструментария вынуждает ученых обращаться к западным исследованиям. На основе отечественных и европейских материалов исследователями применяются методы, разработанные на Западе [28, с. 302].
При изучении истории медицины у национальных меньшинств российской Центральной Азии западные исследователи применяют постколониальную теорию. Это происходит потому, что в западной историографии распространена точка зрения о том, что Советский Союз являлся продолжением Российской империи. Последнюю, в свою очередь, принято рассматривать как аналог европейских колониальных держав. Следовательно, процессы, происходящие на национальных окраинах страны, западные историки рассматривают через призму колониализма [38; 39]. А.Э. Афанасьева, указывая на недостатки такого подхода, рекомендует исследователям избегать буквального следования этим концепциям, постоянно обращая внимание на сходства и различия имперских ситуаций [4, с. 116].
Важной в отношении вопроса использования категорий западной историографии является статья
А.Э. Афанасьевой [4], в которой она, указывая на специфику Российской империи и на проблему использования по отношению к ней термина «колониальный», все же обращается к опыту западной колониальной историографии. Исследовательница выражает свое несогласие с П. Майклз, по мнению которой российские наблюдатели, крайне нелестно отзывавшиеся о здоровье и быте казахов, делали это в целях их дегуманизации для обоснования российского господства. Для опровержения этой точки зрения А.Э. Афанасьева исследует дискурс российских врачей о казахах в XIX в., отмечая его изначальную неоднородность и изменения, возникавшие на фоне исторических событий во всей империи. Несмотря на очевидное наличие в языке описания казахов колониальных тропов, она показывает, как репрезентации казахов русскими врачами и медицинская политика в Казахской степи шли вразрез с тенденциями в отношении к туземным народам колоний в Британской империи [4]. По мнению автора, деятельность врачей в Казахской степи имела четко выраженное политическое измерение. Исполняя там свой врачебный долг, они не только способствовали культурному развитию казахов, распространению гигиенических и санитарных норм, но и повышали доверие местного населения к государству [4, с. 143].
Другим примером использования западных теоретических концепций в изучении истории медицины является цикл работ В.Ю. Башкуева [11; 12; 14; 15]. С помощью концепции «мягкой силы», предложенной Дж. Наем, он изучает практики советской медицины и распространение медицинского знания как инструмент советского влияния. Большевистское руководство рассматривало Бу-рят-Монголию как плацдарм для распространения своего политического и идеологического влияния на территории Внутренней и Центральной Азии. Поэтому развитие в Бурят-Монголии советского здравоохранения и «окультуривание» ее населения приобретали геополитическое значение, поскольку это продемонстрировало бы преимущества социалистического строя близким к бурятам в социально-культурном отношении народам Внутренней Азии [12, с. 198]. Однако «мягкая сила» советской медицины не ограничивалась преобразованиями в сфере медицины и здравоохранения непосредственно на территории СССР. Как показывает Башкуев, она приобретала более активные формы в международном сотрудничестве. Например, Наркомздравом РСФСР были ор- ганизованы медико-санитарные экспедиции в Монгольскую Народную Республику и Тувинс-кую Народную Республику, значительно расширившие сферу влияния советской медицины [11], заметную роль в развитии здравоохранения в Монголии сыграли советники из СССР [10]. Предоставление безвозмездной медицинской помощи, распространение знаний о санитарных нормах, самоотверженная работа советских врачей способствовали повышению авторитета СССР и местных коммунистических правительств.
Обращение к западному опыту в изучении истории медицины в России призвано повысить теоретический уровень отечественных работ. Как показывает пример А.Э. Афанасьевой, совсем не обязательно буквально применять те или иные концепции к российским реалиям с целью их подтверждения. Наоборот, знание западного опыта позволяет отечественным ученым войти в общемировой дискурс, доказывая или опровергая гипотезы, разработанные на Западе. Например, применение В.Ю. Башкуевым концепции «мягкой силы» позволило переосмыслить значение преобразований в сфере здравоохранения и оценить роль медицины в международной политике СССР.
Строительство системы здравоохранения является неотъемлемой частью сложных процессов модернизации кочевых сообществ и межкультурного диалога. В случаях, когда кочевой народ не является государствообразующим (буряты, калмыки, тувинцы, казахи), формирование системы здравоохранения также связано с интеграцией этих народов в государственную систему управления и социокультурное пространство страны. Под строительством системы здравоохранения мы понимаем весь комплекс мер, направленных на создание и обеспечение на определенной территории службы, отвечающей за охрану здоровья населения.
Важными для понимания истории здравоохранения кочевых народов являются работы, посвященные зарождению основ европейской медицины в степи. Как правило, эти процессы происходили в имперский период российской истории. Такие работы раскрывают социокультурный и исторический контекст, в котором происходило формирование новой традиции врачевания. Особенностью этих работ является их комплексный и обобщающий характер, попытка охватить формирование здравоохранения в целом.
Калмыцкими историками написан ряд статей, подробно изучающих формирование в Калмыкии в XIX и начале XX вв. медицинского обслуживания местного населения. Как сообщает А.В. Очи-ров, в сфере медицины среди калмыцкого населения популярностью пользовались врачи тибетской медицины (эмчи) и астрологи (зурхачи). На основе архивных данных и литературных источников он изучает возникновение лечебных учреждений в разных улусах Калмыцкой степи, преимущественно начавшееся в 1860-х гг. В работе уделено внимание отдельным врачам, оказавшим влияние на развитие работы по охране здоровья калмыков, а также первым врачам из числа калмыков, получившим высшее медицинское образование в институтах страны [31]. В.Н. Авлиев и А.В. Манджиева связывают начало организации здравоохранения в Калмыцкой степи с началом оспопрививания калмыков в 1811 г. и созданием в Астрахани губернского оспенного комитета в 1813 г. Однако, согласно авторам, оспопрививание на долгое время оставалось единственным видом оказания медицинских услуг европейской медицины для калмыков [2].
В статье А.Н. Команджаева, Е.А. Команджа-ева и Д.В. Амаевой изучается начальный период становления здравоохранения в Калмыкии во второй половине XIX в. Они приводят данные о состоянии сети лечебных учреждений, составе медперсонала, о наиболее распространенных болезнях калмыков и т.д. Авторы показывают, как кочевой образ жизни калмыков не способствовал доступности для них медицинской помощи. Тем не менее, в эти годы были заложены основы организации участковой системы и бесплатного медицинского обслуживания [24]. В работе, продолжающей изучение начального этапа становления здравоохранения в эпоху Российской империи в начале XX в., авторы уделили значительное внимание хозяйственно-экономической стороне вопроса, а именно финансовой базе организации системы здравоохранения в Калмыцкой степи, окладу врачей и фельдшеров. Важным с точки зрения развития здравоохранения Калмыцкой степи авторы считают заключение направленного туда в 1902 г. врачебного инспектора, который подробно изучил ситуацию в области здравоохранения калмыков и выявил ряд значительных проблем [23].
Особенности формирования европейской медицины в Бурятии в дореволюционный период изучил В.Ю. Башкуев. Рассмотрев историю развития государственной медицины в западноевропейских странах и России, он показал, что главными особенностями этого процесса на территории Буря- тии являлись нахождение вопросов охраны здоровья бурят в ведении бурятского самоуправления и развитая традиция тибетской медицины, которая, по мнению русских наблюдателей, удовлетворяла потребности местного населения в лечебных услугах. Единственным примером государственного вмешательства был контроль за распространением эпидемий, государство брало на себя задачу по оспопрививанию [13].
В работе М.В. Бадугиновой изучается процесс создания здравоохранения в катастрофических условиях Гражданской войны. Как показывает автор, существовавшая до революции сеть медицинского обслуживания была практически разрушена, Гражданская война принесла с собой нищету, голод и эпидемии инфекционных заболеваний. Тем не менее в этот период вместе с образованием Калмыцкой автономной области были заложены институциональные основы здравоохранения в Калмыкии [5].
Ряд работ посвящен изучению развития системы здравоохранения в Туве – как в период до ее вхождения в состав СССР, так и в первые годы после. С.Ю. Чыргалан исследует деятельность отдела здравоохранения министерства культуры Тувинской Народной Республики в 1930–1941 гг. [34]. В работе А.В. Моховой раскрываются историко-правовые аспекты становления и развития здравоохранения Тувы во второй половине 1940-х гг. [29].
Одним из основных направлений исследований по истории здравоохранения кочевых народов Центральной Азии является разработка периодизации формирования здравоохранения. Как правило, такие работы представляют собой серьезный анализ процесса создания и развития здравоохранения, позволяющий на основе количественных и качественных признаков выделить в этом процессе определенные этапы. Примером такой работы является статья М.С. Маадыр и В.Ч. Мон-гуш, посвященная развитию здравоохранения в Советской Туве в 1944–1991 гг. [27]. Весь изучаемый период в ней поделен на этапы, соответствующие десятилетиям ХХ в. Авторы обосновывают такую периодизацию происходящими на этих этапах характерными изменениями в развитии здравоохранения, позволяющими проводить условное разделение между ними [27]. В исследовании показано, каким аспектам здравоохранения уделялось большее внимание в начальный и последующие периоды, поскольку именно в советский период произошли значительные качественные изменения в этой сфере.
Иной взгляд на периодизацию истории системы здравоохранения в Туве приводит М.А. Семенов. Результаты проведенного в исследовании количественного анализа позволили обосновать разделение истории здравоохранения на периоды, в течение которых превалирующее влияние оказывали различные социальные и экономические факторы. Например, в связи с промышленным развитием Тувы в 1961–1980 гг. развитие здравоохранения было направлено на приспособление к новым потребностям, что выразилось в замедлении темпов расширения сети медицинских учреждений, в то же время количество врачебных кадров резко возросло [33].
Процесс формирования здравоохранения в дореволюционной Бурятии прослежен в работе С.Д. Батоева. Он предлагает периодизацию создания основ системы здравоохранения в Забайкалье как единой организационно-территориальной структуры с момента присоединения региона к Российской империи в начале XVIII в. и до упразднения советской властью Забайкальской области 4 января 1926 г. Как полагает автор, смена государственной власти в Забайкалье после событий 1917 г. фактически не отразилась на политике развития здравоохранения в регионе, которая сохраняла преемственность по отношению к имперскому периоду [9].
Периодизацию развития здравоохранения в Семипалатинской области Степного края с 1860-х гг. по начало XX в. предложила А.И. Власова. Весь этот период поделен исследовательницей на два этапа – согласно происходящим в Степном крае процессам. Так, например, массовая миграция переселенцев из европейской части России обозначила необходимость решения вопросов здравоохранения местными властями [18]. В следующем исследовании А.И. Власова рассмотрела развитие медикосанитарной службы в Акмолинской и Семипалатинской областях Степного края в 1890-х – 1917 гг. [19].
Создание системы здравоохранения у кочевых народов часто было сопряжено с необходимостью борьбы с периодически возникавшими на территории их проживания эпидемиями инфекционных заболеваний. Зачастую эта борьба давала толчок для развития сети медицинских учреждений в степи, обосновывала необходимость научного изучения природы заболевания и быта кочевников.
Важной в контексте изучения роли эпидемий в развитии здравоохранения в имперских условиях является работа А.Э. Афанасьевой о борьбе с холерой в Казахской степи в XIX в. В статье автор на примере двух эпидемий (1829–1831 гг. и 1892 г.) прослеживает изменения в дискурсе о казахах в среде чиновников и врачей Российской империи, перемены в деле общественного здравоохранения, вызванные пореформенными преобразованиями. Через призму контроля распространения холеры и борьбы с ней автор рассматривает сложный диалог между властью империи и казахским народом. Агентами власти выступали врачи, которые, при отсутствии между собой согласия по поводу методов лечения, были едины в своем желании упрочить доверие казахского населения к российской медицине. На примере докладов и свидетельств русских врачей А.Э. Афанасьева наглядно показывает отсутствие в дискурсе о холере в России ее трактовки как «чисто азиатской» болезни, бытовавшей в среде британских врачей [37].
В статье Г.К. Кокебаевой и С.К. Шилдебай изучается борьба с эпидемическими заболеваниями в Казахстане в первой трети XX в., наиболее распространенными из которых были тифы, холера, оспа и дизентерия. Как показывают авторы, систематическая работа по борьбе с эпидемиями началась только после образования СССР, в дореволюционный период она носила лишь эпизодический характер [21].
Ряд работ посвящен борьбе с эпидемиями оспы, чумы и других болезней в Калмыцкой степи. В.Н. Авлиев исследует вопрос борьбы с оспой у калмыков в начале XIX в. Он считает, что несмотря на предпринимаемые правительством меры по борьбе с оспой, они носили бессистемный характер и проводились только в случаях, когда проблема приобретала широкий масштаб [1]. Как показывает исследование А.Н. Команджаева и С.Е. Бадмаевой, в конце XIX – начале XX в. отношение властей к эпидемиям среди калмыков стало более серьезным и систематичным. Вспышки инфекционных болезней в Калмыцкой степи и соседних регионах не игнорировались властями. Через Управление калмыцким народом в улусы отправлялись различные указания по профилактике и карантину, улусы снабжались медикаментами и дезинфицирующими средствами. В работе отмечается, что кочевой характер бытового уклада калмыков способствовал эффективному принятию административно-полицейских мер по локализации и карантину территорий с зараженным населением [25]. Эпидемия чумы 1914 г. в Калмыкии изучена в статье А.Н. Команджаева, С.Е. Бадмаевой и Н.П. Мацаковой. Ими проанали- зирован весь комплекс противоэпидемических мероприятий, рассмотрена деятельность медицинского персонала. Как сообщают авторы, проведенные врачами осмотр степных грызунов и лабораторные анализы позволили сделать вывод об энде-мичности чумы на данной территории. Авторы отмечают готовность российского имперского механизма к обеспечению борьбы с чумой у калмыков материальными и людскими ресурсами [22].
В работах, посвященных системе здравоохранения у кочевых народов, авторы также поднимают важную проблему отношения советской медицины к альтернативным лечебным практикам традиционной и народной медицины. Как известно, негативное отношение к альтернативной медицине было заложено в самой основе российской государственной медицины. После образования СССР этот вопрос приобрел и идеологическое измерение, что привело к дискриминации и запрету народной и традиционной медицины, а также репрессиям в отношении практикующих их лекарей.
В.Ю. Башкуев и М.М. Содномпилова изучают историю отношения советских властей к альтернативным врачебным практикам в Бурят-Монгольской АССР и Монгольской Народной Республике. Авторы работы приходят к выводу, что терпимое отношение к альтернативной медицине в 1920-х гг. было вызвано рациональными и прагматическими соображениями советских властей. В первые годы после образования СССР система здравоохранения находилась в зародышевом состоянии и не была способна обеспечить большинство населения базовыми медицинскими услугами. Существование альтернативы в виде монголо-тибетской медицины помогало облегчить проблемы с отсутствием доступной западной медицины. Поэтому, когда в последующие годы система здравоохранения по модели Семашко окрепла, альтернативные медицинские практики были запрещены [16].
Похожий кейс представляет собой сосуществование народной, традиционной и научной медицины в Тувинской Народной Республике в 1910-х – 1930-х гг. М.С. Маадыр исследует, как смена руководства республики в 1929 г. отразилась на отношении государства к тибетской и народной медицине. Согласно представленным материалам, государство ранее тратило бюджетные средства и на поддержку ламской медицины, демонстрируя желание сохранить сосуществование тибетской и европейской медицин. Приход к власти «левых» ознаменовал изменение подхода к альтернативной медицине, что выразилось в репрессиях против ее представителей [26].
Направления исследований формирования и развития здравоохранения у кочевых народов Центральной Азии не исчерпываются вышеописанными, отечественные историки изучают большой спектр элементов этого процесса. Объектами исследования в работах предстают как сама организационная структура системы здравоохранения [17], такие ее составные части, как система охраны здоровья матери и ребенка [7; 8; 32] и санпросвет [6; 12; 35], так и организация здравоохранения в рамках одного города [36] и формирование медицинской интеллигенции и кадров [20; 30].
Как было показано выше, отечественные исследования по истории здравоохранения у кочевых народов Центральной Азии характеризуются обилием изучаемых тем. Их недостаточная разработанность в советское время обусловила необходимость проведения поисковой работы в различных архивах на современном этапе. Большинство рассмотренных работ базируются на архивных источниках. Как правило, изучением вопросов из истории здравоохранения кочевых народов занимаются местные ученые, что объясняется большей доступностью для них главного ресурса для исследований – местных архивов. Отсюда четкое разграничение научных работ по территориальному признаку, редкое исследование охватывает несколько народов или территорий одновременно. В связи с этим следует отметить, что осмысление и обобщение опыта строительства систем здравоохранения у кочевых народов Центральной Азии представляет собой перспективное направление в развитии истории медицины в отечественной науке.