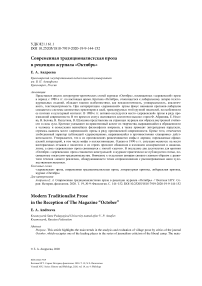Современная традиционалистская проза в рецепции журнала "Октябрь"
Автор: Андреева Елена Александровна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 9 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
Представлен анализ литературно-критических статей журнала «Октябрь», посвященных «деревенской» прозе в период с 1980-х гг. по настоящее время. Критика «Октября», относящегося к либеральному лагерю толстожурнальных изданий, обладает такими особенностями, как неидеологичность, универсальность, аналитичность, текстоцентричность. При интерпретации «деревенской» прозы фокус внимания критиков-либералов смещается с системы ценностных ориентиров и идей, транслируемых этой группой писателей, на особенности ее поэтики и культурный контекст. В 1980-е гг. активно исследуется место «деревенской» прозы в ряду произведений современности. В это время ее статус оценивается достаточно высоко: герои Ф. Абрамова, Е. Носова, В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина представлены на страницах журнала как образец внутренней стойкости и силы духа. Критики указывают на нравственный аспект их творчества, выражающийся в обращенности к человеку и осмыслении важнейших философских вопросов, а также проводят литературные параллели, стремясь выявить место «деревенской» прозы в ряду произведений современности. Кроме того, отмечается злободневный характер публикаций «деревенщиков», выражающийся в противостоянии «лакировке» действительности. Утверждается, что в их произведениях развенчиваются мифы о деревне, порождаемые официальной литературой, в том числе мифы о коллективизации. Однако в 1990-е гг. ситуация меняется: на место восторженных отзывов о писателях и их героях приходят обвинения в излишнем консерватизме и национализме, а сама «деревенская» проза связывается с эпохой «застоя». В последние два десятилетия для критики «Октября» «деревенская» проза становится неактуальной: в журнале практически не публикуются статьи, посвященные писателям-традиционалистам. Внимание к отдельным авторам связано главным образом с развитием течения «нового реализма», обнаруживающего точки соприкосновения с рассматриваемым нами художественным явлением.
Короткий адрес: https://sciup.org/147220479
IDR: 147220479 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-9-144-152
Текст научной статьи Современная традиционалистская проза в рецепции журнала "Октябрь"
«Деревенская» проза с начала 1960-х гг. становится объектом пристального внимания критики «толстых» журналов, представляющей две разнонаправленные идеологические группы – национал-патриотическую и либеральную. Рецепция «деревенской» прозы исследуется М. Бергом, Е. Добренко, Н. Ковтун, А. Разуваловой, Ю. Говорухиной, И. Чеканниковой и др., однако вопрос об особенностях ее рассмотрения в различных литературно-критических дискурсах остается не до конца изученным и требует более тщательного рассмотрения. В данной статье будут освещены основные тенденции анализа и оценки «деревенской» прозы критиками журнала «Октябрь», который занимает одно из ведущих мест в ряду толстожурнальной критики либерального лагеря. Материалом для исследования послужили статьи, опубликованные в период с 1980 г. до настоящего времени, что позволяет также проанализировать рецепцию современной традиционалистской прозы критикой «Октября» в диахроническом аспекте.
Результаты исследования
Одной из важнейших характеристик либеральной критики, задающей направление интерпретации «деревенской» прозы и литературы в целом, является ее неидеологичность. Об отсутствии «идеологического отношения к литературе» писали М. Липовецкий и М. Берг, указывая на принципиальное отличие двух направлений критики: «Если критики патриотического лагеря использовали литературу для пропаганды и иллюстрирования националистической мифологии, то их либеральные оппоненты были лишены единой идеологической платформы» [Липовецкий, Берг, 2011. С. 497]. Отсюда проистекает еще одна особенность либеральной критики – ее неоднородность, выражающаяся, в частности, в отсутствии единого подхода в выборе художественного материала и единой методологии интерпретации произведения. Как отмечают И. В. Мютеюнайте и М. В. Красева, «идеологических, географических или хронологических предпочтений» в литературном поле «Октября» не просматривается» [Мютеюнайте, Красева, 2015. С. 192]. Таким образом, либеральная критика более универсальна и менее избирательна, чем патриотическая: ее интересуют различные эпохи, направления, авторы вне какого-либо определенного идеологического и культурного контекста. При анализе «деревенской» прозы фокус внимания критиков-либералов смещается с системы ценностных ориентиров, транслируемых этой группой писателей, на особенности ее поэтики и культурный контекст.
Для понимания специфики либерально-критического дискурса о «деревенской» прозе следует обратиться к вопросу о том, как критики-либералы трактуют понятие «народность». Если в патриотической критике народное воспринималось «в качестве остатка, полученного после удаления из национальной культуры всего инородного, чужого, заимствованного» [Добренко, Калинин, 2011. С. 446], а в литературном поле обнаруживалась жесткая оппозиция «свое - чужое», «народное - ненародное», то либеральная критика, в отличие от патриотической, понимает «народное» как органическую часть универсального. Показательно, что в патриотической критике интеллигент зачастую являет собой врага народа, оторванного от проблем своей страны, в либеральной же критике «интеллигент - пастырь своего народа» [Золотусский, 1986. C. 196]. Образ интеллигента не отделяется от образа писателя-«дере-венщика»: они не противоречат друг другу. И. Золотусский, обращаясь к творчеству Ф. Абрамова, пишет: «Крестьянский сын, Абрамов, всю жизнь писавший о крестьянине и крестьянстве, почитал интеллигенцию. Даже став интеллигентом из интеллигентов, он склонял голову перед высокими умами» [Там же. С. 195]. Критерий «народности», близости к народному и национальному не является определяющим при анализе и оценке художественного явления, он не участвует в формировании литературного поля «свое - чужое». В этом состоит принципиальное отличие либеральной критики от патриотической.
Ввиду отсутствия каких-либо четких идеологических оппозиций в либерально-критическом дискурсе 1980-х гг. выстраиваются оппозиции эстетические. Одна из них воплощается в противостоянии «“деревенская” проза - соцреализм». Критики-либералы отмечают заслуги «деревенской» прозы в развенчивании мифов о деревне, порождаемых официальной литературой. Так, Е. Добренко связывает прозу В. Овечкина, Ф. Абрамова, С. Залыгина, В. Астафьева с такими явлениями, как «суровый реализм», «демифологизация жизни», «разрушение легенд», «правда творчества» [Добренко, 1988. С. 185].
В. Камянов также отмечает, как писатели-«деревенщики» противостояли своими произведениями искажению правды и лакировке действительности. Критик пишет, что в 1960-е гг. «авторы, дерзнувшие поколебать легенды о головокружительных успехах коллективизато-ров, все резче сворачивали в сторону сурового эпоса и открытой публицистичности» [Камя-нов, 1988. С. 153]. Не последнюю роль в этом процессе критик отводит В. Белову, который сумел развеять мифы и показать «мытарства колхозника» в противовес идиллии, изображаемой в официальном, поддерживаемом на государственном уровне дискурсе о деревне.
Соцреализм как художественное явление в либеральном дискурсе 1980-х приобретает ярко негативную окраску, в то время как «деревенская» проза, обращенная к человеку, становится неким ценностным ориентиром для критиков «Октября». Ал. Горловский в противовес нападкам ортодоксальных рецензентов, которые обвиняют героев «деревенской» прозы в пассивности, ограниченности, узости кругозора, отмечает простоту, близость к природному, естественному началу этих героев. Критик наделяет их лучшими качествами: «...устойчивость к жизни, сознание долга перед прошлым и будущим, поэтическое восприятие не только окружающей природы, но и самого труда, высокая нравственность, чуждая какой бы то ни было демонстрации напоказ» [Горловский, 1987. С. 176]. Тот же нравственный идеал в героях «деревенской» прозы видит и Н. Лошкарева. В героях Ф. Абрамова она отмечает внутреннюю силу, готовность к преодолению трудностей, самоотверженность, любовь к тру -ду и обращенность к сфере возвышенного, нематериального: «Духовное начало присутствует в каждом их поступке» [Лошкарева, 1985. С. 200].
В либеральном дискурсе 1980-х принципы утверждения нравственности и обращенности к простому человеку, транслируемые «деревенской» прозой, играют значительную роль в процессе становления общества. К. Степанян обращает внимание на проблему нравствен- ного воспитания молодежи, определяя В. Астафьева и В. Распутина как авторов, чьи произведения направлены на развитие лучших качеств в подрастающем поколении. Он с горечью констатирует тот факт, что «80–85 % развитой молодежной аудитории и не слыхали о таких писателях, как Астафьев, Быков, Айтматов, Распутин» [Степанян, 1986. С. 191]. На философско-нравственный характер прозы В. Шукшина указывает А. Курчаткин, изображая писателя как духовного наставника, позволяющего читателю сориентироваться в изменяющемся мире, найти себя в его прозе. По словам критика, его произведения необходимы каждому, ведь в них поднимается проблема выбора человека «хорошего, порядочного и нравственного» перед миром «безнравственности» [Курчаткин, 1984. С. 196].
Такое внимание критиков «Октября» к нравственному аспекту «деревенской» прозы, ее обращенности к человеку подтверждает тезис М. Берга о том, что в литературно-критическом дискурсе либералов 1980-х гг. происходит «доминирование этики над эстетикой» [Ли-повецкий, Берг, 2011. С. 512] и нравственность превращается в главный эстетический критерий.
Акцентируя внимание на том, что «деревенская» проза противостоит лакировке действительности и развенчивает мифы о деревне, критики-либералы подчеркивают их особый взгляд на переломные для крестьянства годы. Н. Ажгихина в статье «Противостояние» исследует повесть Ф. Абрамова «Поездка в прошлое», возвращающую читателя к событиям коллективизации. В ней, по мысли критика, поднимаются важные вопросы: взаимоотношение народа и государства, роль народа в истории, «состояние и движущие силы народного организма» [Ажгихина, 1989. С. 181]. Критик указывает на общность повести в идеологической позиции и самостоятельной концепции исторического развития с произведениями «Все течет» В. Гроссмана и «Год великого перелома» В. Белова. Н. Ажгихина противопоставляет два подхода к событиям 1930-х гг. и представляет повесть Ф. Абрамова, полную «печальных наблюдений, горечи и сострадания», своеобразным ответом тем произведениям, в которых «революция в деревне представала победным шествием, сопровождаемым одним воодушевлением и звуками фанфар» [Там же. С. 182].
«Деревенская» проза в либеральном дискурсе осмысливается как проза злободневная, отвечающая запросам времени. Критики «Октября» высоко оценивают способность писателей ставить важнейшие вопросы сохранения традиций и нравственных идеалов, возрождения сельского хозяйства, спасения человечества от разрушения. Ю. Андреев считает повесть В. Распутина «Пожар» «прямым аналогом гражданственно-страстных выступлений журналистов и публицистов» [Андреев, 1986. С. 195]. В качестве еще одного примера актуальной прозы критик приводит повесть Б. Екимова «Холюшино подворье», которая является «весьма конкретным аргументом в современном споре о тактике и практике землепользования» [Там же. С. 201].
По мнению С. Хелемендика, книга В. Личутина «Дивись-гора», представляющая «размышление о судьбе крестьянской культуры Русского Севера», ставит важнейшие вопросы возрождения традиционных промыслов и вымирания поморских деревень, возвращения чувства «рачительного хозяина» и при этом сохранения интересов живого мира [Хелемендик, 1987. С. 205]. А. Эльяшевич отмечает, что В. Астафьев в своей прозе ставит вопросы «нравственного одичания народа», судьбы Родины, научно-технического прогресса. Заметим, что критик не соглашается со взглядами писателя на прогресс как на нечто разрушительное, ведущее к гибели, и не может признать в качестве альтернативы «натуральное хозяйство и избу» [Эльяшевич, 1990. С. 198]. За влиянием научно-технического прогресса критик, в отличие от писателя, усматривает человеческий фактор и возлагает ответственность за предполагаемое В. Астафьевым «разрушение личности» и распространение хищнического потребительства на самого человека: «Хронический дефицит, вхолостую работающие машины, низкий уровень жизни, грубые нарушения демократии и законности и, как следствие этого, утрата людьми высоких гражданских идеалов – вот где истинная, а не мнимая причина нравственного упадка общества» [Там же].
Еще одна характерная особенность, которая отличает критику либеральной направленности и задает присущее ей направление интерпретации, – аналитичность. Критики-либералы в большей мере, чем критики-патриоты, интересуются вопросами теории и истории литературы 1. Так, Е. Добренко в статье «Превратности метода» исследует понятие соцреализма в контексте литературы XX в., развенчивая некоторые мифы советского литературоведения [Добренко, 1988]. М. Золотоносов в статье «Отдыхающий фонтан» [1991] осмысляет традиции прошлого и литературу постсоветского, кризисного пространства, указывая на ее основные проблемы и специфику формирования.
Критики «Октября» стремятся выявить место «деревенской» прозы в ряду произведений современности. В. Новиков, исследуя состояние жанра рассказа в 1970-е гг., обращается к В. Шукшину как к «мастеру фабульной новеллы». Главной составляющей его рассказов он считает поступки: «Шукшин отчетливо понимал, что жизнь в рассказе может заговорить в полный голос только через усилитель гиперболы, заострения, событийного конфликта» [Новиков, 1987. С. 194]. Такую же тенденцию к освещению острых конфликтов, человеческого поведения в экстремальных ситуациях критик обнаруживает у В. Высоцкого и В. Маканина. В. Новиков заостряет внимание на особенностях поэтики В. Шукшина и, используя сравнительно-типологический анализ, предлагает читателю посмотреть на творчество писателя в широком литературном контексте современности.
На страницах «Октября» можно встретить немало статей, в которых проводятся параллели между «деревенской» прозой и другими художественными явлениями. Так, Л. Сараскина исследует роман Б. Можаева «Мужики и бабы» (1976), в котором рассматривает ориентацию писателя на идеи и образы «Бесов» Ф. М. Достоевского, главным образом в специфике изображения «переломного года» [Сараскина, 1988. С. 182]. Автор статьи находит точки соприкосновения двух текстов: хроникальность повествования, синхронность эпизодов, заложенную в сюжет идею о всеобщем счастье, которой на самом деле движет желание группы людей захватить абсолютную власть, авторскую позицию по отношению к методам и средствам «великого эксперимента». Л. Сараскина отыскивает истоки событий 1929 г., отображенные в романе Б. Можаева, у Ф. М. Достоевского, чей роман признан пророческим.
Критика «Октября» ориентирована в большей мере на текст, чем на автора. Это проявляется как в отсутствии биографического подхода в опубликованных в журнале литературнокритических статьях, так и в довольно вольной интерпретации текстов, как бы отделяемых от взглядов самого автора. Так, А. Бочаров в статье «Утверждение человека» рассматривает повесть В. Распутина «Пожар» (1985) в философско-психологическом аспекте и на ее примере исследует понятие человеческого достоинства. По мнению критика, достоинство Ивана Петровича, главного героя повести, проявляется в его «хозяйском чувстве», которое и отличает его от поселковых жителей. Это чувство, с точки зрения А. Бочарова, побуждает человека жить гармонично, полагаясь на «четыре подпорки»: дом, семья, труд, земля. Однако далее критик останавливается на образе «архаровцев», которые предстают у В. Распутина как отрицательные герои, «новые хозяева жизни», не имеющие корней, связи со своей родной землей и символизирующие нравственную деградацию жителей современной деревни. Фокус внимания критика смещается с общественной проблематики повести на философско-нравственную. Тот факт, что местные жители и так называемые «архаровцы» растаскивали запасы складов во время пожара, критик объясняет следующим образом: «В их поведении усматривается реакция на то, что их не считали хозяевами. Раскрытые склады обнажили, сколько там всяческих товаров. Они, работяги, вкалывают, а все вкусненькое увозится на легковушках каким-то сладкоежках. Почему бы не отщипнуть от этого, все равно мимо них проносимого пирога?! И в столь извращенной форме парадоксально сказывается попранное достоинство личности» [Бочаров, 1986. С. 185].
С одной стороны, в представлении критика Иван Петрович – человек с проявленным чувством достоинства, которое совпадает с «хозяйским чувством». С другой стороны, А. Бочаров представляет поселковых жителей и «архаровцев» как людей, чья гордость была ущемлена начальниками, скрывавшими запасы на складах, обнажившиеся во время пожара, и оправдывает их. Такая интерпретация противоречит позиции В. Распутина, для которого было важно показать «неблагополучное состояние самого общественного устройства, грозящее обернуться всенародной бедой» [Перевалова, 2000. C. 79]. Взгляд критика смещен с общественной проблематики повести о распаде прежних ценностей и устоев на философско-психологический ее аспект. На примере приведенной статьи можно увидеть, как критик порождает новые смыслы текста В. Распутина, основанные на собственной системе ценностей, и дает достаточно вольную интерпретацию авторских идей.
В 1990-е гг. интерес критиков «Октября» к «деревенской» прозе угасает: на протяжении этих лет в журнале практически не публикуются статьи, посвященные традиционалистам. Внимание критиков приковано к новому явлению в русской литературе – постмодернизму. Так, М. Берг, осмысляя литературу второй половины XX в. в контексте идеологической борьбы, упускает «деревенскую» прозу как идеологически противостоящее официальной литературе явление и в своих рассуждениях о неофициальной литературе 1960-х гг. ограничивается только «шестидесятниками». В большей мере критик сосредоточен на литературе андеграунда и новых именах – В. Сорокин, Д. Пригов, Л. Рубинштейн. «Деревенская» проза становится неактуальной и неинтересной для либерального дискурса. Кроме того, происходит переосмысление ее роли в литературном процессе второй половины XX в. Если патриотическая критика этого периода осмысливает ее как путь спасения в ситуации кризиса, то либеральная начинает критически подходить к идеям, выдвигаемым писателями-«деревен-щиками». Главным «разоблачителем» «деревенской» прозы и системы ее взглядов выступает критик А. Бочаров. В статье «Две оттепели: вера и смятение» он отдает дань заслугам деревенской прозы, таким как способствование отказу от идеологических ориентиров, но вместе с тем отмечает, что она «притерлась к застойным временам», поскольку «уводила от героя ищущего к герою извечно закодированному, от социальной изменчивости, к национальной неизменности» [Бочаров, 1991. С. 192].
В статье «Мифы и прозрения» А. Бочаров обвиняет писателей в излишнем «воинствующем напоре», сопровождающем их отстаивание национальной самобытности [Бочаров, 1990а. С. 172]. В статье «Мчатся мифы, бьются мифы» [1990б] критик указывает, что В. Распутин в произведении «Сибирь, Сибирь..» обвиняет А. Рыбакова в очернении в «Детях Арбата» коренных сибиряков. По мнению А. Бочарова, противопоставление благонравности сибиряков и распущенности столичных жителей является не чем иным, как дискриминацией, недопустимой для широко признанного автора. Критик дискредитирует писателей-«деревен-щиков», обвиняя их в ксенофобии, высокомерии и национализме разного масштаба.
«Деревенская» проза становится более актуальной в 2010-е гг. с появлением в литературе новых имен – продолжателей линии современной традиционалистской прозы. Среди них – Р. Сенчин, который публикует статью о Б. Екимове, являющуюся откликом на очерк писателя «На хуторе. Прощание с колхозом». Критик выделяет его из группы других «деревенщиков» как писателя, не идеализирующего крестьянский труд и быт, называет «образцом писателя-летописца», поскольку его очерки 1992–1995 гг. запечатлели момент гибели деревни. Р. Сенчин позиционирует себя как писателя с похожими художественными интересами: он также застал разруху, запустение русских деревень и отразил это в своем творчестве. Интерпретация текстов своего литературного предшественника играет важную роль в процессе самоидентификации писателя: Р. Сенчин выявляет точки соприкосновения с идеями В. Распутина 2, Б. Екимова и дает свой отклик на их прозу. По отношению к последнему литератор замечает: «Иногда меня как человека, пытающегося тоже что-то писать, во время чтения очерков покалывала ревность: вот эта деталь и у меня есть, вот этот эпизод тоже..» [Cенчин, 2010. С. 167]. Эта статья, являющаяся образцом писательской критики, демонстрирует преемственность традиций «деревенской» прозы, сохранившуюся в произведениях современных авторов – представителей «нового реализма».
Заключение
Итак, мы проследили основные тенденции в осмыслении «деревенской» прозы критикой журнала «Октябрь». В 1980-е гг. неотрадиционалистская проза предстает литературой, обращенной к «простому» человеку, к его личности и его душе, сосредоточенной на нравственных вопросах бытия и являющей некие идеалы, образцы для подражания в эпоху кризиса духовного начала. Отмечается и высоко оценивается ее философско-нравственный характер, умение поставить важнейшие вопросы современности, по-новому осмыслить исторические события, в частности события коллективизации. «Деревенская» проза рассматривается в ряду современных художественных тенденций, таких как исповедальность, онтологичность, обращенность к человеку. Интерес к ней угасает с началом 1990-х гг., когда «деревенская» проза начинает ассоциироваться с эпохой застоя, а сами писатели обвиняются в излишнем консерватизме и крайнем национализме. В 2000-е гг. обращения к «деревенской» прозе единичны и связаны с развитием течения «нового реализма», обнаруживающего точки соприкосновения с рассматриваемым нами художественным явлением.
Received
27.04.2020
Cведения об авторе
Список литературы Современная традиционалистская проза в рецепции журнала "Октябрь"
- Ажгихина Н. Противостояние // Октябрь. 1989. № 9. С. 181–187.
- Андреев Ю. Главное – художественность, или Почему живут и умирают книги // Октябрь. 1986. № 11. С. 195–203.
- Бочаров А. Утверждение человека // Октябрь. 1986. № 6. С. 185–190.
- Бочаров А. Мифы и прозрения // Октябрь. 1990а. № 8. С. 160–173.
- Бочаров А. Мчатся мифы, бьются мифы // Октябрь. 1990б. № 1. С. 181–191.
- Бочаров А. Две оттепели: вера и смятение // Октябрь. № 6. 1991. С. 188–193.
- Горловский Ал. Перед новым этапом! // Октябрь. 1987. № 3. С. 171–180.
- Добренко Е. Превратности метода // Октябрь. 1988. № 3. С. 179–190.
- Добренко Е., Калинин И. Литературная критика и идеологическое размежевание эпохи оттепели: 1953–1970 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: НЛО, 2011. C. 417–476.
- Золотусский И. Чистое слово // Октябрь. 1986. № 7. С. 194–199.
- Золотоносов М. Отдыхающий фонтан // Октябрь. 1991. № 4. С. 166–179.
- Камянов В. Служение муз и прикладная эстетика // Октябрь. 1988. № 10. С. 146–159.
- Ковтун Н. В. Историоризация мифа: от «благословенной» Матеры к Пылево (об авторском диалоге В. Распутина и Р. Сенчина) // Вестник ОмГПУ. 2017. № 4 (17). С. 85–87.
- Курчаткин А. Служить современности // Октябрь. 1984. № 5. С. 190–197.
- Липовецкий М., Берг М. Мутации советскости и судьба советского либерализма в литературной критике семидесятых: 1970–1985 // История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи / Под ред. Е. Добренко, Г. Тиханова. М.: НЛО, 2011.
- C. 477–552.
- Лошкарева Н. Честный разговор // Октябрь. 1985. № 12. С. 199–201.
- Мютеюнайте И. В., Красева М. В. «Толстый» журнал и литературный процесс сегодня: на примере литературной критики журнала «Октябрь» // Вестник Псков. гос. ун-та. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. Вып. 1. С. 187–196.
- Новиков В. Думайте поступками // Октябрь. 1987. № 6. С. 192–199.
- Перевалова С. В. Повести В. Г. Распутина: автор и герои («Прощание с Матёрой», «Живи и помни», «Пожар»): Учеб. пособие по спецкурсу. Волгоград, 2000. 133 с.
- Сараскина Л. «Выход из безграничной свободы…» // Октябрь. 1988. № 7. С. 181–199.
- Сенчин Р. Летописец печальных времен // Октябрь. 2010. № 7. С. 165–168.
- Степанян К. Метафора длиною в жизнь? // Октябрь. 1986. № 7. С. 182–191.
- Хелемендик С. Родовая память // Октябрь. 1987. № 8. С. 205–206.
- Эльяшевич А. Четыре октавы бытия // Октябрь. 1990. № 4. С. 193–202.